Адам сидел на грубой скамейке, поддерживая голову рукою, которая от плеча до локтя покоилась на длинном верстаке, стоявшем посередине мастерской. Казалось, он присел, чтоб только отдохнуть несколько минут, и заснул, не переменив положения, вызванного грустной, томительной мыслью. Его лицо, неумытое со вчерашнего дня, было бледно и в холодном поту, его волосы были взъерошены около лба, а закрытые глаза провалились, как это всегда бывает после продолжительного бдения и при сильном горе. Его брови были нахмурены, и все лицо выражало истощение и страдания. Джип явно находился в беспокойном состоянии духа, ибо он сидел, положив морду на выдвинувшееся колено господина, и, проводя время в том, что лизал бессознательно спущенную руку, и прислушиваясь, оглядывался на дверь. Бедное животное было голодно и неспокойно, но не хотело оставить своего господина и с нетерпением ожидало какой-нибудь перемены в сцене. Это чувство со стороны Джипа было виной того, что когда Лисбет вошла в мастерскую и приблизилась к Адаму, как только могла, без шуму, то ее намерение не разбудить его было в ту же минуту уничтожено, ибо волнение Джипа было слишком сильно и не могло не выразиться коротким, но резким лаем, и в одну минуту Адам открыл глаза и увидел, что его мать стояла перед ним. Это нисколько не разнилось от его видений, ибо он во сне почти снова переживал – в лихорадочном бреду – все, что случилось с рассвета, и его мать с слезливой тоской представлялась ему сквозь все, что он видел. Главная разница между действительностью и видением состояла в том, что во сне Хетти беспрестанно являлась ему как живая, странно вмешиваясь, как действующее лицо, в сцены, до которых ей решительно не было никакого дела. Она была даже у Ивового Ручья; она рассердила его мать, войдя к ним в дом, и он встретил ее в нарядном, но совершенно мокром платье, когда шел во время дождя в Треддльстон, чтоб сообщить о случившемся следственному приставу. Но куда бы ни шла Хетти, его мать непременно следовала за ней вскоре, и когда он открыл глаза, то нисколько не удивился, увидев мать, стоявшую около него.
– Ах, родной мой, родной! – в ту же минуту воскликнула Лисбет жалостливо, получив возможность сетовать, ибо горесть, когда еще свежа, чувствует потребность соединить потерю и плач со всякою переменой сцены и случая. – Кроме твоей старой матери, некому теперь мучить тебя и быть тебе в тягость: бедный отец уж больше не рассердит тебя никогда, – и твоей матери также можно убраться за ним, и чем скорее, тем лучше, потому что я не приношу теперь пользы никому. Старое платье годится только на починку другого, но на что-нибудь иное оно негодно. Тебе захочется иметь жену, которая будет чинить твои платья и готовить кушанья лучше, нежели твоя старуха мать. А я буду только в тягость, сидя в углу у печки.
Адам содрогался по временам и делал нетерпеливые движения; больше всего он опасался, что его мать заговорит о Хетти.
– Но если б твой отец был жив, он никогда не захотел бы, чтоб я уступила место другой… он ничего не стал бы делать без меня, все равно как одна сторона ножниц ничего не может сделать без другой. Э-э-эх, нам следовало бы отправиться обоим вместе, и тогда я не увидела бы этого дня, и одни похороны годились бы для нас обоих.
Тут Лисбет остановилась, но Адам сидел в тягостном безмолвии; сегодня он должен был говорить со своею матерью не иначе, как только нежно, но эти жалобы не могли не раздражить его. Бедной Лисбет невозможно было знать, какое влияние производило это на Адама, подобно тому как раненая собака не в состоянии знать, какое влияние производят ее стоны на нервы господина. Как все слезливые женщины, она жаловалась в том ожидании, что утешится, и когда Адам не говорил ничего, то это только поощряло ее жаловаться с большею горечью.
– Я знаю, что тебе было бы лучше без меня, ибо ты мог бы идти, куда захотел, и жениться на той, на какой хочешь. Но я не хочу сказать тебе, что мне было бы это неприятно; введи в дом, кого ты хочешь. Я никогда не открыла бы рта, чтоб порицать тебя, ибо люди старые и бесполезные должны быть благодарны за то, что получают чего-нибудь поесть и напиться, хотя вместе с этим они и должны глотать неприятности. И если ты отдашь свое сердце девушке, которая не принесет тебе ничего, а, напротив того, разорит тебя, когда бы ты мог получить девушку, которая сделала бы из тебя человека, то я не скажу ничего теперь, когда твой отец умер и утонул, ибо я не лучше старого черенка, когда пропал клинок.
Адам, будучи не в состоянии переносить долее эти жалобы, молча встал со скамейки и из мастерской вышел в кухню.
Но Лисбет последовала за ним:
– Ты разве не хочешь подняться и посмотреть на отца? Я сделала ему все, что нужно; ему было бы приятно, если б ты пошел взглянуть на него, ибо он был всегда доволен, когда ты обходился с ним кротко.
Адам вдруг повернулся и сказал:
– Да, матушка, пойдем наверх. Сет, пойдем вместе.
Они поднялись наверх. В продолжение пяти минут царствовало глубокое молчание. Затем ключ повернулся снова. На лестнице раздался шум шагов. Но Адам не спустился снова вниз. Он был слишком утомлен и обессилен для того, чтоб еще подвергнуться слезливой горести своей матери, и лег отдохнуть на свою постель. Лишь только Лисбет вошла в кухню и села, как накинула передник на голову и принялась плакать, стонать и качаться, как прежде. Сет подумал: «Она мало-помалу успокоится, так как мы были наверху», и он снова отправился в заднюю кухню, чтоб посмотреть за своим огоньком, надеясь, что он скоро убедит мать напиться чаю.
Лисбет, таким образом, покачивалась взад и вперед больше пяти минут, издавая слабый стон каждый раз, когда тело ее наклонялось вперед, как вдруг она почувствовала, что чья-то рука нежно коснулась ее рук и кто-то сладостным дискантом сказал ей:
– Дорогая сестра, Господь послал меня посмотреть, не могу ли я принесть вам какое-нибудь утешение.
Лисбет обновилась, прислушиваясь, но не снимая своего передника с головы. Голос казался ей чужим. Неужели дух ее сестры возвратился к ней от умершей столько лет назад? Она затряслась и не смела посмотреть.
Дина, понимая, что это безмолвное удивление было само по себе облегчением для горестной женщины, не произнесла ничего более, но тихо сняла свою шляпку и затем, сделав знак молчания Сету, который, услышав ее голос, вошел с бьющимся сердцем в комнату, облокотилась одною рукою на спинку стула Лисбет и наклонилась над старухой, чтоб она могла заметить присутствие друга.
Медленно опустила Лисбет свой передник и робко открыла свои слабые темные глаза. Сначала она не увидела ничего, кроме лица – прозрачного, бледного лица, с исполненными любви серыми глазами, но оно было ей совершенно незнакомо. Ее удивление увеличилось; быть может, то был ангел. Но в то же время Дина снова положила руку на Лисбет, и старуха посмотрела на руку. Рука была гораздо меньше ее собственной, но она не была бела и изящна, ибо Дина никогда в жизни не носила перчаток и ее рука имела на себе следы тяжелой работы с самого детства. Лисбет с минуту озабоченно смотрела на руку и потом, снова устремив глаза на лицо Дины, сказала как бы с возвращающимся мужеством, но с удивлением в голосе:
– Вы работница!
– Да, я Дина Моррис и работаю на бумагопрядильной фабрике, когда нахожусь дома.
– А! – сказала Лисбет медленно, с прежним удивлением. – И вы вошли так легко, как тень на стене, и сказали мне на ухо, так что я подумала – не дух ли вы? У вас, ни дать ни взять, такое же лицо, как вот у ангела, который изображен сидящим у гроба на картинке в Адамовой новой Библии.
– Я пришла теперь с господской мызы. Вы знаете мистрис Пойзер. Она моя тетка; она слышала о вашем большом горе и очень сожалеет о вас. А я пришла посмотреть, не могу ли быть вам в чем-нибудь полезна при вашем несчастье, ибо я знаю ваших сыновей, Адама и Сета, и знаю, что у вас нет дочери, и когда священник сказал мне, как тяжко легла на вас рука Божья, то сердце мое было увлечено к вам, я почувствовала приказание идти и заступить при вас место дочери в этой скорби, если вы только позволите.
– А, я знаю теперь, кто вы, вы принадлежите к методистам, как Сет. Он говорил мне о вас, – сказала Лисбет слезливо: ее сильное чувство скорби возвратилось теперь, когда исчезло ее удивление. – Вы станете доказывать, что несчастье ведет только к добру, как он все говорит. Но что же за польза говорить мне об этом? Своим разговором вам ни на каплю не уменьшите моего несчастья. Вы никогда не заставите меня поверить, что не было бы лучше, если б мой старик умер в постели, когда уж ему было суждено умереть… Если б имел при себе священника, который молился бы за него; если б я сидела у его изголовья и говорила ему… Он забыл бы дурные слова, с которыми я обращалась к нему иногда, в сердцах… Если б давала ему есть и пить до тех пор, пока он только был бы в силах глотать… Но, увы, умереть в холодной воде! И мы были так близко и ничего не знали; и я-то спала, будто и не принадлежала вовсе к нему, будто он был школьник и бродил – кто его знает где!
Тут Лисбет снова начала хныкать и качаться, и Дина сказала:
– Да, любезный друг, ваше горе велико. Тот должен иметь черствое сердце, кто скажет, что ваше несчастье не тяжело перенести. Бог послал меня к вам не для того, чтоб ни во что не ценить вашей печали, а для того, чтоб сетовать с вами, если вы позволите. Если б у вас был накрыт стол для пиршества и вы предавались веселью с вашими друзьями, то вы, верно, подумали, что поступили бы благосклонно, позволив мне прийти, сесть и наслаждаться с вами, ибо вы бы думали, что мне было бы приятно участвовать в вашем пире, но я лучше приму участие в вашем горе и в вашем труде, и потому если б вы отказали мне, то ваш отказ поразил бы меня суровее. Вы не отошлете меня назад? Вы не сердитесь на меня за то, что я пришла?
– Нет, нет! сердиться! Кто сказал, что я сержусь? Это очень хорошо с вашей стороны, что вы пришли. А ты, Сет, отчего не подашь ей чаю? Ты так торопился дать мне чаю, когда мне вовсе не нужно, а вовсе не думаешь дать тем, кому следовало бы. Садитесь, садитесь. Очень благодарю вас, что вы пришли, ибо вы получите небольшое вознаграждение за то, что идете по сырым полям, желая навестить такую старуху, как я… Нет, у меня нет родной дочери… и никогда не было… и я не печалилась тем, ибо они бедные, жалкие создания, девушки-то… я всегда желала иметь мальчиков, которые могут заботиться о себе сами. Сыновья женятся… и у меня будет довольно дочерей, даже слишком много. Но теперь сделайте чай, как вы хотите, потому что сегодня у меня нет вкусу во рту… мне все равно, что я ни буду глотать… все будет у меня отзываться горем.
Дина не подала и виду, что уже пила чай, и с большою готовностью приняла приглашение Лисбет, желая убедить старуху, чтоб она приняла пищу и питье, в которых так нуждалась после дня тяжкого труда и воздержания.
Сет был так счастлив теперь, когда Дина находилась у них в доме, и как-то поневоле думал, что ее присутствие достойным образом искупало жизнь, в которой горе следовало за горем беспрерывно. Но через минуту он уже раскаивался в этих мыслях: казалось, что он почти радовался горестной смерти своего отца. Тем не менее радость от того, что он находится вместе с Диной, должна была одержать верх: она походила на влияние климата, которого не пересилит никакое сопротивление. Это чувство отразилось на всем его лице таким образом, что обратило на себя внимание матери в то время, когда она пила чай.
– Тебе, конечно, можно говорить, что несчастье ведет к добру, Сет, ибо ты блаженствуешь от него. Кажется, у тебя нет ни заботы, ни печали, как в то время, когда ты был ребенком и, проснувшись, лежал в люльке… И всегда-то ты, бывало, откроешь глаза да и лежишь, не то что Адам… он, бывало, как проснется, не хочет лежать ни одной минуты. Ты всегда был похож на куль с мукой, который никогда нельзя раздавить, а между тем в этом отношении отец твой был совсем другой человек. Но у вас то же самое выражение, – продолжала Лисбет, обращаясь к Дине. – Я полагаю, это происходит оттого, что вы принадлежите к методистам. Не то чтоб я порицала вас за это, ибо у вас нет никакой печали, а между тем лицо ваше выражает скорбь. Э-эх! если методисты любят несчастье, то они также любят и блаженство; жаль, право, что им оно достается не всем и что они не могут отнять его у тех, кому оно неприятно. А я отдала бы его охотно: когда был жив мой старик, то я мучилась с утра и до ночи, а теперь, когда его нет, я была бы рада переносить худшее.
– Да, – сказала Дина, заботливо избегая противоречия чувствам Лисбет, ибо ее упование – в незначительнейших словах и поступках – на божественное руководство проистекало всегда из тончайшего женского такта, происходящего от искренней и всегда готовой симпатии, – да, я также помню, что когда умерла моя дорогая тетка, то мне так и хотелось слышать звук ее болезненного кашля по ночам вместо тишины, воцарившейся, когда ее уж более не было. Но теперь, любезный друг, выпейте еще эту чашку чаю и покушайте еще немного.

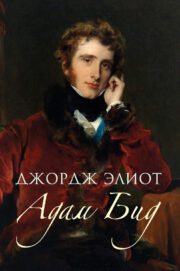
"Адам Бид" отзывы
Отзывы читателей о книге "Адам Бид". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Адам Бид" друзьям в соцсетях.