– Сет, – сказал Адам, не обращая внимания на насмешку, направленную против него, – ты не должен сердиться на меня. Я вовсе не метил на тебя в том, что я говорил несколько минут назад. Один смотрит на вещи так, а другой иначе.
– Нет, нет, Адди, я знаю очень хорошо, что ты не сердишься на меня, – сказал Сет. – Ты похож на свою собаку Джин, которая иногда полает на меня, а потом опять станет лизать руки.
Все молча работали несколько минут до тех пор, пока церковные часы не пробили шесть. Еще не успел замереть первый удар, как рыжий Джим бросил свой рубан и достал свой камзол; жилистый Бен оставил винт ввернутым до половины и кинул отвертку в свою корзинку с инструментами; Тэфт, по прозванию немой, который, согласно со своим прозвищем, сохранял молчание в продолжение всего предыдущего разговора, бросил в сторону молоток, который только что собирался поднять; Сет также выпрямил свою спину и уже протянул руку к бумажному колпаку. Один лишь Адам продолжал работать, как будто не случилось ничего. Но, заметив остановку инструментов, он взглянул и с негодованием сказал:
– Послушайте-ка. Я не могу оставаться спокойным, если вижу, что люди бросают свои инструменты в ту самую минуту, когда только что часы начинают бить, как будто они не находят в работе никакого удовольствия и боятся лишний раз ударить мо лотком.
Сет, видимо, смутился и медленнее стал приготовляться уйти, но немой Тэфт, прерывая молчание, сказал:
– Э, Адам, ты говоришь, как молодой человек. Тебе теперь двадцать шесть лет, а когда тебе стукнет сорок шесть, как мне, тогда ты не станешь так рваться к работе ни за что ни про что.
– Вздор, – сказал Адам все еще сердитым тоном. – Право, мне кажется, тут дело вовсе не в летах. Впрочем, я не думаю, что человек в твои лета должен быть вял. Я с негодованием вижу, если кто-нибудь опускает вниз руки как убитый, лишь только раздастся первый удар часов, как будто он не гордится своею работою и не находит в ней никакого наслаждения. И точильный камень будет вертеться несколько времени после того, как ты отойдешь от него.
– Ну, уж довольно, Адам! – воскликнул жилистый Бен. – Оставь каждого идти своей дорогой. Ты вот несколько минут назад находил ошибки в проповедниках, а ты сам очень любишь проповедовать. Ты, может быть, лучше любишь работать, нежели играть, а я лучше люблю играть, нежели работать. Это приходится тебе по вкусу… от этого тебе только больше дела.
С этою выходною речью, которую он считал весьма действительною, жилистый Бен накинул на плечо свою корзинку и вышел из мастерской, быстро сопровождаемый немым Тэф-том и рыжим Джимом. Сет медлил и пристально смотрел на Адама, как бы ожидая, что он ему скажет что-нибудь.
– Ты сперва зайдешь домой, а оттуда уже пойдешь на проповедь? – спросил Адам, взглянув на брата.
– Нет, я оставил шляпу и платье в квартире Билля Маскери. Я не приду домой раньше десяти часов. Может случиться, что я провожу домой Дину Моррис, если она пожелает этого. Ты знаешь, что ей не с кем будет прийти от Пойзер.
– В таком случае я скажу матери, чтобы она не ждала тебя, – сказал Адам.
– А ты сам не пойдешь к Пойзер сегодня вечером? – спросил Сет несколько робким голосом, собираясь выйти из мастерской.
– Нет, я пойду в училище.
До этого времени Джип лежал на своей удобной постели. Заметив, что другие работники стали уходить, он поднял голову и пристально следил за Адамом. Но лишь только последний успел положить в карман свою линейку и отвернуть передник набок, как Джип вскочил с своего места, подбежал к своему господину и стал пристально смотреть ему в лицо, терпеливо ожидая чего-то; если б у Джипа был хвост, то он, без всякого сомнения, замахал бы им, но, лишенный этого средства выражать свои ощущения, он, подобно многим другим почтенным лицам, таким образом, по определению судьбы, казался флегматичнее, чем он был на самом деле.
– Что, ты уж ждешь корзинки, Джип, а? – сказал Адам, и в голосе слышалась та же мягкость, как в то время, когда он говорил с Сетом.
Джип прыгнул и тихонько залаял, как бы желая выразить:
– Конечно.
Бедняжка, в выражении своих чувств он не имел большого выбора.
Корзинка заключала в себе по будням обед Адама и Сета. Ни одно из официальных лиц, участвующих в какой-нибудь процессии, не обращает так мало внимания на своих знакомых, как делал Джип, когда он, с корзинкой, следовал по пятам за своим гос подином.
Выйдя из мастерской, Адам замкнул дверь, вынул ключ и снес его в дом, находившийся на другой стороне дровяного двора. То был низенький домик, покрытый гладкою серою соломой, с светло-желтыми стенами, имевший при вечернем свете весьма приятный вид. Оправленные в свинец окна были светлы и без пятнышек, ступенька перед дверью – чиста, как булыжник при отливе моря. На ступеньке стояла чистенькая старушка в полотняном темно-полосатом платье, с красным платком на шее и в полотняном чепчике; она разговаривала с пестрыми домашними птицами, которые, казалось, были привлечены к ней обманчивою надеждою на получение холодного картофеля или ячменя. Зрение старухи было, по-видимому, очень слабо, потому что она узнала Адама только тогда, когда он сказал:
– Вот ключ, Долли! Положите его, пожалуйста, в дом.
– Положу непременно. Не хотите ли, однако ж, войти, Адам? Мисс Мери дома, и мастер Бердж возвратится тотчас, он будет рад, если вы останетесь с ним ужинать, за это я ручаюсь.
– Нет, Долли, благодарю, я иду домой. Доброй ночи.
Адам, сопровождаемый по пятам Джипом, быстро и большими шагами удалился с дровяного двора и вышел на большую дорогу, которая проходила от деревни вниз по долине. Когда он достиг подошвы покатости, пожилой всадник, у которого был привязан сзади чемодан, остановил лошадь, поравнявшись с ним, и обернулся, чтоб проводить продолжительным взором плотного работника в бумажном колпаке, кожаных штанах и в темно-синих шерстяных чулках.
Адам, не подозревая приятного впечатления, которое произвел на всадника, скоро пошел по полям и запел гимн, весь день не выходивший у него из головы:
Let all thy converse be sincere,
Thy conscience as the noonday clear;
For God's all-seeing eye surveys
Thy secret thoughts, thy works and ways.[5]
II. Проповедь
Около трех четвертей седьмого в деревне Геслон, во всю длину ее небольшой улицы от Донниторнского Герба до кладбищенских ворот, обнаружилось необыкновенное движение; жители оставили свои помещения, побуждаемые к тому, очевидно, не одним лишь желанием понежиться на вечернем солнце. Донниторнский Герб стоял у входа в деревню, и небольшой хуторный и усадебный дворы, находившиеся сбоку и указывавшие на то, что к гостинице принадлежал изрядный участок земли, обещали путешественнику хороший корм как для него самого, так и для лошади. Это могло служить ему утешением в том, что поврежденная временем вывеска не позволяла ему хорошенько ознакомиться с геральдическими изображениями древней фамилии Донниторн. Мистер Кассон, хозяин гостиницы, уже несколько времени стоял у дверей, держа руки в карманах, становясь то на пятки, то на цыпочки и покачиваясь; его взоры были обращены на неогороженный участок, где на середине помещался клен, который, как было известно хозяину, был местом назначения мужчин и женщин важного вида, время от времени проходивших мимо его.
Личность мистера Кассона вовсе не принадлежала к числу обыкновенных типов, которые не заслуживают описания. С первого взгляда она, казалось, главнейшим образом состояла из двух сфер, относившихся друг к другу так же, как земля и луна, то есть нижняя сфера, казалось на простой взгляд, была в тринадцать раз больше верхней, которая, естественно, отправляла должность простого спутника и подчиненного. Но этим и ограничивалось сходство, потому что голова мистера Кассона вовсе не была сателлитом меланхолического вида – или «запятнанным шаром», как непочтительно отозвался о месяце Мильтон; напротив, голова и лицо были весьма гладки и имели совершенно здоровый вид; лицо, состоявшее главнейшим образом из круглых и румяных щек, между которыми нос и глаза образовывали такую незначительную связь и перерывы, что о них почти не стоило и упоминать, выражало радостное довольство, смягчавшееся только сознанием личного достоинства, которым была проникнута вся фигура. Это чувство достоинства нельзя было считать чрезмерным в человеке, находившемся целые пятнадцать лет в должности дворецкого «фамилии» и, в своем настоящем высоком положении, по необходимости часто имевшем дело с подчиненными. В последние пять минут мистер Кассон обдумывал в уме проблему: каким образом удовлетворить своему любопытству и отправиться на Луг, не лишаясь своего достоинства? Он уже отчасти разрешил задачу, вынув руки из карманов и вдвинув их в проймы своего жилета, затем наклонив голову на одну сторону и приняв вид презрительного равнодушия ко всему, что могло попасться ему на глаза, как вдруг его мысли обратило на себя приближение всадника, того самого, который незадолго перед тем останавливал свою лошадь и продолжительным взором провожал нашего знакомца Адама и который теперь подъезжал к дверям Донниторнского Герба.
– Возьми лошадь за узду и дай ей напиться, человек! – сказал путешественник парню в грубой блузе, вышедшему со двора при звуке лошадиного топота – Что у вас такое в вашей деревеньке, хозяин? – продолжал он, сходя с лошади. – У вас какое-то особенное движение.
– Да проповедь методистов, сударь! У нас распространился слух, что молодая женщина будет проповедовать на Лугу, – отвечал мистер Кассон дискантовым и удушливым голосом с некоторым жеманством. – Не угодно ли вам, сударь, войти и не прикажете ли чего?
– Нет, я должен ехать дальше в Дростер. Мне нужно только напоить лошадь… Но что же говорит ваш пастор о том, что молодая женщина читает проповеди прямо у него под носом?
– Пастор Ирвайн не живет здесь, сударь, он живет в Брокстоне, вон там за холмом. Дом священника здесь совсем развалился, сударь, так что господину нельзя жить в нем. Он приходит проповедовать по воскресеньям после обеда, сударь, и оставляет здесь свою лошадь. Это, сударь, серая лошадка, которую он высоко ценит. Он всегда оставлял ее здесь, сударь, еще в то время, когда я не был хозяином Донниторнского Герба. Я не здесь родился, сударь, как вы легко можете узнать по моему произношению. В этой стороне, сударь, выражаются чрезвычайно странно, так что господам весьма трудно понимать их. Я, сударь, вырос среди господ, привык к их языку, когда еще был мальчишкой. Как, думаете вы, произносят здесь люди «hevn't you?»[6]. Господа, известно, говорят: «hevn't you?», ну, а здесь народ говорит: «hanna yey». Так, как они говорят здесь, сударь, это называется диалект. Я слышал, что сквайр Донниторн не раз говорил об этом: это, говорил он, диалект.
– Так, так, – сказал чужестранец, улыбаясь. – Я очень хорошо знаю это. Но я не думаю, чтоб у вас тут было много методистов… в вашем земледельческом местечке. Я даже предполагал, что трудно найти между вами методиста. Ведь вы все фермеры, не правда ли? А ведь методисты имеют мало влияния на это сословие.
– Нет, сударь, здесь в окрестности живет множество рабочих. Здесь живет мистер Бердж, которому принадлежит лесной двор, вот этот; он занимается постройками и починками, и у него много работы. Потом неподалеку отсюда находятся каменоломни. Нет, в этой стороне есть много работы, сударь! Потом, здесь есть славная куча методистов в Треддльстоне… Это ярмарочный город, милях в трех отсюда… вы, может быть, проезжали через него, сударь! Их набралось теперь здесь несколько десятков на Лугу. Оттуда-то наши рабочие и набираются этого учения, хотя во всем Геслоне только два методиста: это Вилл Маскри, колесник, и Сет Бид, молодой человек, занимающийся плотничною работою.
– Следовательно, проповедница из Треддльстона, не так ли?
– Нет, сударь, она из Стонишейра, около тридцати миль отсюда. Но она приехала сюда погостить к мистеру Пойзеру на мызе… Это вот их риги и большие ореховые деревья, все прямо на левой руке, сударь! Она родная племянница жены Пойзера, и Пойзеры будут очень недовольны и огорчены тем, что она так дурачится. Но я слышал, что когда в голову этих методисток заберется такой вздор, то их нельзя удержать ничем: многие из них делаются совершенно сумасшедшими со своей религией. Впрочем, эта молодая женщина с виду очень кроткая. Так, по крайней мере, мне говорили, сам я ее не видел.
– Жаль, что у меня нет времени и что я должен ехать дальше: мне хотелось бы остаться здесь и посмотреть на нее. Я удалился с своей дороги на целые двадцать минут, желая осмотреть ваш дом в долине. Он, кажется, принадлежит сквайру Донниторну, не так ли?
– Да, сударь, это охотничье место Донниторна, совершенно так. Славные дубы, сударь, не правда ли? Я уж должен знать, что это такое, сударь, потому что жил у них дворецким целые пятнадцать лет. Наследник всего этого теперь капитан Донниторн, сударь, внук сквайра Донниторна. Он будет совершеннолетним к нынешней жатве, сударь, вот тогда уж будет праздник на нашей улице. Ему, сквайру Донниторну, принадлежит вся окрестность здесь, сударь!

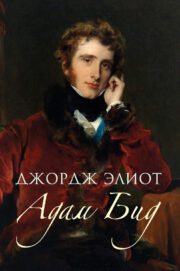
"Адам Бид" отзывы
Отзывы читателей о книге "Адам Бид". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Адам Бид" друзьям в соцсетях.