– Нет, это правда. Хорошо еще, если я могу вспомнить немного неприменяемых латинских выражений для того, чтоб украсить мою девственную речь в парламенте лет через шесть, или семь. Cras ingens iterabimus aequor и немного отрывков в этом роде, может быть, останутся в моей памяти, и я так устрою свои мнения, что могу ввести их. Но я вовсе не думаю, чтоб знание классиков было крайне необходимо для деревенского джентльмена; сколько мне кажется, ему было бы лучше познакомиться с обычаями страны. Я недавно читал книги вашего друга Артура Юнга, и мне лучше всего хотелось бы выбрать несколько из его идей, чтоб побудить фермеров к лучшему управлению своею землею и, как он говорит, сделать из дикой страны, которая представляла однообразную темную почву, блестящую и испещренную хлебом и скотом землю. Дедушка не даст мне никакой власти, пока он только жив; но ничего не хотелось бы мне так, как взять на себя стонишейрскую часть имения (она находится в ужасном состоянии), начать улучшения и разъезжать верхом с одного места на другое, чтоб надзирать над всем. Мне хотелось бы знать всех работников и видеть, как они снимают передо мною шляпы с видом радушия.
– Браво, Артур! Человек, не имеющий особого расположения к классикам, не мог бы лучше оправдать свое вступление в свет, как только тем, что увеличить производительность земли для пропитания ученых и… священников, умеющих ценить учение. И как мне хотелось бы быть здесь в то время, когда вы только что вступите на ваше поприще образцового помещика. Вам понадобится сановитый священник, который дополнял бы картину и брал свою десятую часть с уважения и чести, приобретенных вами тяжкими трудами. Только вы не слишком-то сильно полагайтесь на благосклонность, которую вы получите вследствие этого. Я не совсем-то уверен, что люди больше всего расположены к тем, которые стараются быть полезными им. Вы знаете, Гавена прокляли все соседи за огороженное место. Вы должны совершенно разъяснить в ваших мыслях, к чему вы стремитесь более всего, мой друг, к популярности или к пользе; в противном же случае вы, пожалуй, не достигнете ни того, ни другого.
– О! Гавен груб в обращении; он вовсе не старается быть приятным своим поселянам. Я не верю, будто есть что-нибудь, что вы не могли бы заставить людей сделать вашею добротой. Что до меня, то я не могу жить в соседстве, где бы меня не уважали и не любили; я с таким удовольствием хожу здесь между поселянами, они все, по-видимому, так расположены ко мне. Я полагаю, им кажется, что это было вчера, когда я был маленьким мальчиком и разъезжал везде на пони, которая была с овцу ростом. И если б им положить хорошее жалованье и в порядке содержать их строения, то как они ни глупы, а их можно было бы убедить, чтоб они обрабатывали землю по лучшему плану.
– В таком случае, постарайтесь о том, чтоб ваша любовь нашла себе достойный предмет, и не женитесь на такой, которая стала бы истощать ваш кошелек и сделала из вас скупца, вопреки вам самим. Между моею матерью и мною случаются иногда споры о вас. Она говорит: «Я не скажу об Артуре ни одного пророчества до тех пор, пока не увижу, в какую женщину он влюбится». Она думает, что ваша возлюбленная будет управлять вами, как луна управляет приливом и отливом. Но я чувствую себя обязанным защищать вас как моего воспитанника – вы знаете, и я утверждаю, что вы вовсе не созданы из таких водяных свойств. Итак, не подвергайте моего мнения немилости.
Артур содрогнулся под влиянием этой речи, потому что мнение дальновидной старой мистрис Ирвайн о нем произвело на него неприятное впечатление злополучного предзнаменования. Это, натурально, послужило ему только новым основанием к тому, чтоб настоять на своем решении и получить новую защиту против самого себя. Тем не менее в этом месте разговора он чувствовал, что был еще менее расположен рассказать свое приключение с Хетти. Он имел впечатлительный характер и по большой части держался мнений и чувств других людей относительно его самого; и один только факт, что он находился в присутствии искреннего друга, который не имел ни малейшего подозрения, что в нем происходила подобная серьезная внутренняя борьба, какую он пришел поверить ему, несколько поколебал его собственную веру в важность борьбы. Ведь, наконец, об этом не стоило, право, и хлопотать; и что ж мог сделать Ирвайн для него, чего он не сделал бы сам? Он отправится в Игльдель, несмотря на то что Мэг хромает; он поедет на Раттлере, и велит Пиму ехать за ним, как он там хочет, на старой кляче. Вот как он думал, когда клал сахар в кофе, но в следующую минуту, когда он поднимал чашку ко рту, он вспомнил, как твердо решил он в своих мыслях вчера вечером обо всем рассказать Ирвайну. Нет, он не будет снова колебаться, он сделает то, что он хотел сделать, сейчас же. Таким образом было бы хорошо не оставлять разговора о личности. Если они перейдут к совершенно незначительным предметам, его затруднение увеличится. Ему потребовалось не слишком много времени для этого порыва и действия чувства, прежде чем он ответил:
– Но, кажется, едва ли можно считать доказательством общей твердости характера мужчины то, что он способен покориться влиянию любви. Хорошее сложение не ограждает человека от оспы или от каких-нибудь других неминуемых болезней. Мужчина может быть очень тверд в других отношениях, а между тем находиться под очарованием женщины.
– Да, но между любовью и оспою или даже очарованием, существует та разница, что если вы захватите болезнь в ранней степени и позаботитесь о перемене воздуха, то тут есть еще надежда на совершенное избавление без дальнейшего развития симптомов. Есть также известные альтернативные приемы, к которым мужчина может прибегнуть сам, представляя себе мысленно, каким неприятным последствиям он может подвергнуться: это некоторым образом дает вам закопченное стекло, сквозь которое вы можете смотреть на блестящую красавицу и верно различить ее очертание, хотя, надобно сказать мимоходом, я боюсь, что закопченного стекла, пожалуй, будет недоставать в ту самую минуту, когда оно будет необходимо. Я скажу еще, что даже мужчина, укрепленный знанием классиков, может быть приманен к безрассудному браку, несмотря на предостережение, даваемое ему хором Прометея.
Слабая улыбка пробежала по лицу Артура, и, вместо того чтоб следовать за игривою идеей мистера Ирвайна, он сказал совершенно серьезно:
– Да, это хуже всего. Есть отчего прийти в отчаяние, если после всех рассуждений и спокойных решений нами станет управлять расположение духа, которое определить вперед мы не в состоянии. Я не думаю, чтоб человек заслуживал слишком большого порицания, если он заставлен совершать что-нибудь таким образом, вопреки его решимости.
– Ах!.. Но расположение духа зависит от его собственной природы, мой друг, совершенно так же, как и его рассуждения, и даже еще больше. Человек ничего не может сделать несогласно с собственною своей природой. Он носит в самом себе зародыш своего самого исключительного поступка; и если мы, благоразумные люди, делаем из самих себя отменных глупцов при каком-нибудь особенном случае, то мы должны снести законное замечание, что мы вносим несколько гранов глупости в одну нашу унцию благоразумия.
– Но человек может быть вовлечен стечением обстоятельств в какие-нибудь поступки, которых он не исполнил бы при других обстоятельствах.
– Ну, да; человек не может очень хорошо украсть банковый билет, если банковый билет не лежит так, что он удобно может достать его. Но он не заставит нас считать себя честным человеком, если начнет выть о том, что банковый билет встретился на его пути и соблазнил его.
– Но, конечно, вы не станете считать человека, борющегося против искушения, в которое он наконец впадает, столь же дурным, как человека, не борющегося никогда?
– Нет, мой друг, я сожалею о нем пропорционально его борьбе, потому что она предзнаменовывает внутреннее страдание, которое есть худшая форма Немезиды. Следствия бывают безжалостны. Наши поступки влекут за собою свои же страшные последствия, совершенно отдельно от колебаний, предшествовавших им, последствия, которые едва ли касаются только нас самих. И гораздо лучше постоянно думать о том, что случится верно, нежели обращать внимание на то, какие элементы можем мы иметь для оправдания. Но я вовсе не знал, что вы так любите нравственные прения, Артур. Уж не находитесь ли вы сами в какой-нибудь опасности, на которую смотрение с такой философской общей точки зрения?
Обращаясь с этим вопросом, мистер Ирвайн отодвинул в сторону тарелку, откинулся на спинку кресла и прямо посмотрел на Артура. Он действительно подозревал, что Артур хотел сообщить ему о чем-нибудь, и старался облегчить возможность для него, обращаясь к нему с прямым вопросом. Но он ошибся. Внезапно и против воли приведенный почти к самому признанию, Артур содрогнулся и чувствовал, что гораздо менее, чем прежде, был теперь расположен к откровенности. Беседа приняла более серьезный тон, нежели он ожидал, – это приведет Ирвайна в совершенное заблуждение; он вообразит, что тут дело идет о глубокой страсти к Хетти, тогда как ничего подобного и не было. Он почувствовал, что изменился в лице, и ему стало досадно на свое ребячество.
– О, нет! Тут нет никакой опасности, – сказал он, так равнодушно, как только мог. – Я не знаю, чтоб я больше других подвергался нерешимости. По временам встречаются только незначительные случаи, заставляющие человека думать о том, что может случиться в будущем.
Действовало ли при этом странном отвращении Артура к откровенности какое-нибудь недостойное влияние, которое он не признавал и сам? Наша умственная работа производится почти совершенно так же, как работа государственная: большая часть тяжелого труда выполняется деятелями, которые вовсе не признаются. Я думаю, и в какой-нибудь машине есть нередко небольшое незаметное колесо, которое, однако ж, имеет большое влияние на движение больших наружных колес. Может быть, и в уме Артура тайно действовал в ту минуту какой-нибудь подобный неузнанный деятель; может быть, то был страх перед тем, что он, пожалуй, со временем будет серьезно досадовать, зачем признался во всем священнику, в случае, если он не будет в состоянии выполнить свои добрые намерения. Я не смею утверждать, что это было не так. Человеческая душа – вещь весьма сложная.
Мысль о Хетти мелькнула в голове мистера Ирвайна в ту минуту, как он пытливо посмотрел на Артура, но отрицание и равнодушный ответ последнего подтвердили мысль, которая быстро следовала за первою, мысль о том, что в этом направлении не могло быть ничего важного. Не существовало и вероятности, чтоб Артур видел ее иначе, как в церкви и у нее в доме, на глазах мистрис Пойзер; и намек, который дал он Артуру намедни относительно ее, не имел вовсе серьезного значения; он должен был только предварить Артура, чтоб он не обращал на нее слишком много внимания, потому что, в таком случае, он только мог разжечь тщеславие маленькой девушки и таким образом возмутить сельскую драму ее жизни. Артур ведь вскоре должен будет присоединиться к своему полку и будет далеко отсюда; нет, с этой стороны не могло быть никакой опасности, даже и в таком случае, если б характер Артура не представлял сильной безопасности против этого. Его честная, покровительственная гордость, заставлявшая его искать расположения и уважения во всех его окружавших, защищала его даже против безрассудной романической истории, тем более против низшего рода безрассудства. Если в мыслях Артура было что-нибудь особенное при предыдущем разговоре, то это было, что он не хотел входить в подробности, а мистер Ирвайн был слишком деликатен для того, чтоб даже обнаружить любопытство друга. Он заметил, что Артуру было бы приятно переменить разговор, и сказал:
– Кстати, Артур, в день рождения вашего полковника было несколько транспарантов, чрезвычайно эффектных, в честь Британии, Питта и ломшейрской милиции и, главнее всего, «великодушного юноши», героя дня. Не поставите ли и вы чего-нибудь в этом же роде изумить нас, слабых смертных?
Удобный случай прошел. Между тем как Артур колебался, веревку, за которую он мог бы ухватиться, унесло дальше – теперь он должен надеяться на свое собственное плавание.
Десять минут после этого мистера Ирвайна позвали по делу, а Артур, простившись с священником, снова сел на лошадь с чувством неудовольствия, которое старался подавить, обещая себе отправиться в Игльдель без всякой потери времени.
Книга вторая
XVII. Где рассказ останавливается ненадолго
– Этот брокстонский священник немногим лучше язычника! – восклицает, вероятно, одна из моих читательниц. – Было бы гораздо назидательнее, если б вы заставили его дать Артуру какой-нибудь истинно духовный совет. Вы могли бы вложить ему в уста прекраснейшие вещи, которые было бы так же приятно читать, как проповедь.
Конечно, я мог бы сделать это, мой прелестный критик, если б я был умный романист, не обязанный раболепно ползать перед природой и фактом, но способный представлять предметы, как они никогда не бывали и никогда не будут. Тогда, конечно, мои характеры были бы избраны совершенно по моему усмотрению, и я мог бы избрать тип самого беспорочного священника и вложить в его уста мои собственные, удивительные рассуждения при всяком случае. Но вы должны были заметить это уж давно: у меня нет такого высокого призвания, и я добиваюсь только одного – дать вам верное описание людей и предметов, как они отразились, как в зеркале, в моем уме. Это зеркало, без всякого сомнения, имеет недостатки. Очертания бывают иногда сбивчивы, отражение бледно или спутанно; но я, тем не менее, считаю себя обязанным сказать вам, и как могу точнее, каково это отражение, подобно тому, как если б я находился в ложе свидетелей и под клятвою рассказывал примеры из моего опыта.

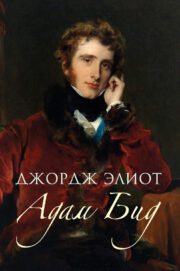
"Адам Бид" отзывы
Отзывы читателей о книге "Адам Бид". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Адам Бид" друзьям в соцсетях.