– Ну, – сказал я, – это был отличный род проповедования в будни; но я полагаю все-таки, что если б ваш старый друг мистер Ирвайн был снова вызван к жизни и взошел в будущее воскресенье на кафедру, вам, пожалуй, было бы несколько стыдно, что он не проповедует лучше после всех ваших похвал о нем.
– Нет, нет, – сказал Адам, приосаниваясь и откидываясь назад на стуле, будто приготовляясь отразить какие бы то ни было заключения, – никто не слышал, чтоб я говорил о мистере Ирвайне как о значительном проповеднике. Он не вникал в глубокий духовный опыт, и я знаю, что во внутренней жизни человека есть много такого, чего вы не можете вымерить наугольником и сказать «сделай это и затем последует вот то-то» и «сделай то и затем последует вот это». Есть вещи, происходящие в душе, и время, когда чувства входят в вас, как стремительный могучий ветер, как сказано в Священном Писании; они как бы разделяют вашу жизнь надвое, так что вы оглядываетесь на самих себя, как будто вы были кто-нибудь другой. Это вещи, которые вы не можете причислить к разряду таких, где вы говорите «сделай это» и «сделай то»; и в этом отношении я согласен с самыми строгими методистами, каких вы только можете найти. Это показывает мне, что в религии существуют глубокие духовные вещи. Вы не можете понять много, говоря об этом, но вы чувствуете это. Мистер Ирвайн не входил в глубину этих вещей: он говорил краткие нравственные поучения, вот и все. Но зато его поступки всегда согласовались с тем, что он говорил, он не выдавал себя за человека, который сегодня совершенно отличался от других людей, а завтра походил на них, как походят одна на другую две горошины. И он умел заставить людей любить и уважать себя, а это было лучше, чем возмущать их жизнь, вмешиваясь чересчур в их дела. Мистрис Пойзер, бывало, говорила – а вы знаете, она за словом в карман не лезла, – она говорила: «Мистер Ирвайн походил на хороший обед: чем меньше вы думали о нем, тем он был питательнее для вас», а мистер Райд – на прием лекарства: он заставлял вас корчиться и мучил, а между тем не производил много пользы.
– Но разве мистер Райд не больше проповедовал о духовной части религии, о которой вы говорите, Адам? Не могли ли вы больше вынести из его речей, нежели из речей мистера Ирвайна?
– Эх, не знаю! Он много проповедовал о различных учениях. Но я видел совершенно ясно, еще с того времени, как я был молод, что религия есть нечто другое, нежели учения и сведения, на мой взгляд, учения – это все равно, что отыскивать имена для ваших чувств, так что вы можете говорить о них, когда вы их вовсе не знали, точно так же, как человек может толковать об инструментах, когда он знает их названия, хотя бы он никогда и не видел их, а тем менее работал ими. Я слышал в мое время много толкований об учениях: я, бывало, ходил слушать проповеди диссидентов с Сетом, когда мне было лет семнадцать, и меня сильно озадачивали арминиане и кальвинисты. Последователи Весли, как вам известно, самые строгие арминиане; и Сет, который никогда терпеть не мог что-нибудь суровое и всегда надеялся, что все на свете устраивается к лучшему, с самого начала крепко держался учения Весли. Но я думал, что могу пробить несколько дыр в их мнениях, и мне случилось спорить с одним из классных церковных лекторов в Треддльстоне, и я озадачивал его таким образом сначала с одной стороны, а потом с другой, что он наконец сказал: «Молодой человек, это дьявол употребляет вашу гордость и высокомерие орудием войны против простоты истины». Тогда я не мог не рассмеяться, но когда возвращался домой, я раздумал, что он не был неправ. Я начал видеть, что все это взвешивание и исследование, что значит этот текст и что значит тот текст и спасаются ли люди все милостью Бога или в этом участвует и небольшая часть их собственной воли, я видел, что все это не имеет ничего общего истинной религией. Вы можете говорить об этих вещах бесконечное число часов, и вы станете от этого только раздраженным и высокомерным. Таким образом, я решил никуда не ходить, кроме церкви, и не слушать никого, кроме мистера Ирвайна: он говорил одно только доброе да то, что вас делало умнее, когда вы вспоминали о том. И, по моему мнению, лучше для моей души, если я буду смиряться перед таинствами деяний Божиих и не делать никакого шуму о том, чего никогда не буду в состоянии понять. Да и, наконец, не будут ли это одни лишь безрассудные вопросы? Все, что происходит вне нас и внутри нас самих, не исходит ли от Бога? Если мы обладаем решимостью поступать справедливо, то, я думаю, во всяком случае, он дал нам ее, но я вижу довольно ясно, что мы никогда не сделаем этого без решимости, и этого с меня довольно.
Вы замечаете, что Адам был горячий поклонник, может быть, даже пристрастный судья мистера Ирвайна, какими, к счастью, еще бывают некоторые из нас, когда дело коснется людей, которых мы коротко знали. Без сомнения, умы высшего разряда будут смотреть с презрением на это, как на слабость, умы, которые алчут идеала и которых гнетет общее сознание о том, что их чувство слишком возвышенно для того, чтоб найти достойные их самих предметы между обыкновенным человечеством. Я часто пользовался милостью быть поверенным этих избранных натур, и, по моему опыту, они все подтверждают мой опыт, что великие люди пользуются уж слишком большим уважением, а незначительные люди несносны; что если б вы захотели полюбить женщину так, чтоб ваша любовь не показалась вам впоследствии безрассудством, то эта женщина должна умереть в то время, как вы ухаживаете за ней; и уж если б вы хотели сохранить малейшую веру в человеческий героизм, то вы никогда не должны совершать путешествие для того, чтоб увидеть героя. Сознаюсь, я часто уклонялся с робостью от признания этим совершенным и проницательным джентльменам, в чем именно состоял мой собственный опыт. Я опасаюсь, что часто улыбался им с лицемерным согласием и удовлетворял их эпиграммою насчет мимолетного характера наших иллюзий, эпиграммою, которую, впрочем, мог бы легко составить после минутного размышления всякий, хотя сколько-нибудь знакомый с французскою литературою. Но человеческое обращение, как, кажется, заметил один умный человек, не бывает искренно в строгом смысле. И теперь я очищаю свою совесть и объявляю, что я чувствовал полнейший энтузиазм и удивление к старым джентльменам, которые неправильно знали свой родной язык, по временам обнаруживали брюзгливый нрав и никогда не знали высшей сферы влияния, как сфера приходского смотрителя; объявляю также, что средство, при помощи которого я дошел до заключения, что человеческая природа способна быть любимой, – средство, при помощи которого я несколько ознакомился с глубоким пафосом этой природы, с ее возвышенными таинствами, приобрел я, живя много времени среди людей, более или менее обыкновенных и простых, о которых вы, может быть, не услышали бы ничего весьма удивительного, если б вы захотели справиться о них в соседстве тех мест, где они живут. Готов держать пари десять против одного, что большая часть незначительных лавочников, живших в их соседстве, не видела в них решительно ничего особенного, ибо я заметил замечательное совпадение обстоятельств, что между избранными натурами, алчущими идеала и не находящими в панталонах и юбках ничего довольно великого, что могло бы заслужить их уважение и любовь, и самыми ограниченными и мелкими людьми находится странное сходство. Например, я часто слышал, как мистер Джедж, хозяин «Королевского дуба», обыкновенно обращавший завистливый взор на своих соседей в деревне Шеппертон, излагал свое мнение о людях, живших в одном с ним приходе – а ведь он только этих людей и знал, – следующими выразительными словами: «Да, сэр, я часто говорил это и снова скажу: в этом приходе живет ничтожный народ… да, сэр, ничтожный, от мала до велика». Кажется, он имел неясную идею, что если б мог переселиться в отдаленный приход, то, может быть, нашел бы соседей достойных; и действительно, он потом перевел свое заведение в «Сарацинову голову», которая совершала цветущие дела в одной из задних улиц соседнего ярмарочного города. Но, довольно странно, он нашел, что люди в этой задней улице были совершенно на один покрой с людьми в Шеппертоне… «ничтожный народ, сэр, от мала до велика; и те, которые приходят за рюмкой джина, не лучше тех, которые приходят за пинтою двухпенсовой… ничтожный народ, сэр».
XVIII. Церковь
– Хетти, Хетти! Ведь ты знаешь, что служба начинается в два, а теперь половина второго? Неужели ты не можешь подумать о чем-нибудь другом именно в это воскресенье, когда опустят в землю бедного старика Матвея Бида… а утонул-то он в самую глухую ночь… Если подумаешь только об этом, то мороз вот так и пробежит по спине. А тебе нужно наряжаться, будто идешь на свадьбу, а не на похороны?
– Ну, что ж, тетушка, – сказала Хетти, – я не могу быть готова так скоро, как все другие, когда мне нужно одевать Тот-ти, а вы знаете, с каким трудом заставишь ее стоять спокойно.
Хетти сходила с лестницы, а мистрис Пойзер стояла внизу, в своей скромной шляпке и в шали. Если когда-либо девушка имела вид, будто она была сотворена из роз, то эта девушка была Хетти в своей воскресной шляпке и воскресном платье. Ее шляпка была украшена розовыми лентами, и ее платьице имело розовые пятнышки, рассеянные по белому фону, на ней не было ничего другого, кроме розового и белого, за исключением ее темных волос и глаз и ее маленьких башмачков с пряжками. Мистрис Пойзер рассердилась сама на себя, потому что едва могла удержаться от улыбки, что всякий смертный расположен сделать при виде красивых округленных форм. Таким образом, она повернулась, не произнеся более ни слова, и присоединилась к группе, находившейся на крыльце, сопровождаемая Хетти, сердце которой так сильно билось при мысли об одном лице, которого она ожидала увидеть в церкви, что она едва чувствовала землю под собою.
И вот небольшая процессия отправилась в путь. Мистер Пойзер был в полном воскресном наряде, горохового цвета, в красном с зеленым жилете и с зеленою ленточкою для часов, к которой была прикреплена большая сердоликовая печать и которая висела как отвес от мыса, где помещался карман для часов; желтый шелковый платок был повязан вокруг шеи; на ногах были превосходные серые полосатые чулки, связанные мистрис Пойзер собственноручно и возвышавшие пропорцию его ног. Мистер Пойзер не имел причины стыдиться своей ноги и подозревал, что возникшее злоупотребление сапог с отворотами и других фасонов, имевших целью скрывать почти всю ногу, имело свое начало в достойной сожаления порче человеческих икр. Еще менее имел он причины стыдиться своего круглого веселого лица, выражавшего хорошее расположение духа, когда он сказал: «Пойдем, Хетти… пойдемте, малютки!» – и, подав руку жене, направился по дорожке чрез ворота на двор «Малютки», к которым так отнесся мистер Пойзер, были Марти и Томми, мальчики, один девяти, а другой семи лет, в маленьких плисовых камзольчиках с фалдами и штанах по колено, розовыми щеками и черными глазами; они столько же походили на своего отца, сколько очень маленький слон походит на очень большого. Хетти шла между ними, а позади их терпеливая Молли, обязанность которой состояла в том, чтоб переносить Тотти через двор и через все сырые места на пути, ибо Тотти, быстро оправившаяся от угрожавшей ей лихорадки, настояла на том, чтоб идти сегодня в церковь, и в особенности чтоб надеть красные с черным бусы поверх пелеринки. А в тот день после полудня было очень много сырых мест, через которые нужно было переносить малютку, ибо утром шел страшный ливень, хотя теперь тучи рассеялись и лежали на горизонте серебристыми, громоздившимися одна на другую массами.
Вы могли бы узнать, что то было воскресенье, если б только проснулись на мызном дворе. Петухи и курицы, казалось, знали это и только очень осторожно клохтали; даже самый бульдог казался не столь диким; он, по-видимому, удовольствовался бы тем, что укусил бы не так свирепо, как обыкновенно. Солнечное сияние, казалось, вызывало все предметы к отдыху, а не к работе: оно само, казалось, покоилось на коровьем хлеве, обросшем мхом, на стаде белых уток, копошившихся вместе и прятавших клюв под крылья; на старой черной свинье, лениво растянувшейся на соломе, между тем как ее старший поросенок покоился на жирных боках матери, находя их превосходною эластичною постелью, на Алике, пастухе в новой блузе, который наслаждался полуденным отдыхом в не совсем-то удобном положении, полу сидя-полустоя на ступенях житницы.
– Вот отец стоит у дворовых ворот, – сказал Мартин Пойзер. – Я думаю, ему хочется посмотреть, как мы пойдем по полю. Удивительно, что у него за зрение, а ведь ему семьдесят пять лет.
– Ах! Мне часто приходит на мысль, что старые люди очень похожи на грудных детей, – сказала мистрис Пойзер, – они довольствуются тем, что смотрят все равно, на что бы они там ни смотрели. Я полагаю, что таким образом Провидение убаюкивает их, прежде чем они идут на покой.
Старый Мартин отворил ворота, увидев приближавшуюся семейную процессию, и держал их отворенными, опираясь на свою палку и радуясь, что мог совершить это, ибо, подобно всем старикам, жизнь которых потратилась на труде, ему было приятно чувствовать, что он все еще приносит пользу, что в саду был лучший урожай луку, так как он присутствовал при посеве, и что коров доили лучше, если он оставался дома в воскресенье после обеда и присматривал за этим. Он ходил в церковь раз в месяц, в воскресенье, когда давалось причастие, но в другое время посещал церковь не очень правильно; в сырые воскресенья или когда с ним случался припадок ревматизма он обыкновенно читал три первые главы Бытия за то, что оставался дома.

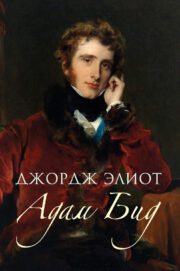
"Адам Бид" отзывы
Отзывы читателей о книге "Адам Бид". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Адам Бид" друзьям в соцсетях.