Когда возвратился Адам со своими запасами, Артур дремал; приход плотника разбудил его.
– Вот хорошо, – сказал Артур, – я ужасно слаб, и мне непременно нужно подкрепить себя водкой.
– Я рад, что вы зажгли свечу, сэр, – сказал Адам. – Мне уж становилось досадно, что я не спросил фонаря.
– Нет, нет, свечи хватит насколько нужно… Теперь я скоро буду в состоянии встать на ноги и отправиться домой.
– Я на могу уйти раньше, пока не увижу, что вы счастливо добрались до дому, сэр, – сказал Адам, запинаясь.
– Да, лучше будет, если ты подождешь. Присядь.
Адам сел, и они оставались друг против друга в неловком безмолвии. Артур медленно пил водку с водой, которая, видимо, начинала оживлять его. Он принял более удобное положение; телесные впечатления, казалось, мало-помалу теряли свою силу над ним. Адам с большим удовольствием следил за этою переменою; и когда стали рассеиваться его опасения насчет положения, в котором находился Артур, он опять почувствовал нетерпение, известное всякому, кто должен был подавить свое справедливое негодование, видя физическое состояние виновного. Он, однако ж, думал, что, прежде чем будет в состоянии возвратиться к увещаниям, ему нужно исполнить еще одно, именно сознаться в том, что было несправедливого в его собственных словах. Может быть, ему потому так сильно хотелось сделать признание, чтоб снова дать свободу своему негодованию; и когда он заметил, что спокойствие Артура начинало возвращаться, слова опять и опять приступали к его губам и отступали назад, удерживаемые мыслью о том, что лучше, пожалуй, будет все объяснения отложить до завтра. Все время, пока они молчали, они и не смотрели друг на друга, и Адам предчувствовал, что если они начнут говорить, как будто они вспомнили о прошедшем, если посмотрят друг на друга с полным сознанием, то непременно воспламенятся гневом. Итак, они сидели молча, пока восковой огарок, догорая, не замерцал в подсвечнике, и это безмолвие становилось все более неловким для Адама. Тут Артур снова налил себе еще водки с водой, потом, закинув руку за голову и притянув ногу к себе, принял положение, доказывавшее, что его физические боли прекратились. При этом виде Адам не мог преодолеть искушения, побуждавшего его сказать то, что было у него на душе.
– Вы начинаете чувствовать себя лучше, сэр, – сказал он, когда свеча загасла и оба они полускрывались друг от друга при слабом лунном свете.
– Да, я не чувствую себя, однако ж, совершенно хорошо… Я очень ленив и не расположен пошевелиться, но пойду домой, когда выпью этот прием.
Последовала небольшая пауза, прежде чем Адам сказал:
– Я не мог переломить гнева своего и наговорил вам вещей, которые несправедливы. Я не имел никакого права сказать, будто вы знали, что делали мне оскорбление: у вас не было основания знать это; я всегда хранил, как только мог, в тайне то, что чувствовал к ней.
Он снова остановился.
– И, может быть, – продолжал Адам, – я слишком строго осудил вас… Я склонен к тому, чтоб быть строгим; и вы, может быть, из легкомыслия пошли далее, чем, по моему мнению, было возможно человеку с сердцем и совестью. Мы не созданы все одинаково и можем ошибочно осуждать один другого. Богу известно, что я больше всего был бы рад иметь о вас лучшее мнение.
Артур хотел идти домой, не сказав более ни слова. Его мысли были в тягостном замешательстве; его тело слишком слабо для того, чтоб он мог желать каких-нибудь дальнейших объяснений в этот вечер, а между тем он почувствовал облегчение, когда Адам снова начал прежний разговор таким образом, что ему можно было отвечать почти без затруднений. Артур находился в несчастном положении откровенного, великодушного человека, сделавшего ошибку, которая заставляет обман казаться необходимостью. Природное побуждение на правду отвечать правдою, встретить истину откровенным сознанием – это побуждение следовало подавить, и обязанность стала вопросом тактики. Его поступок уже оказывал на нем свое действие, уже деспотически управлял им и заставлял его согласиться на такой образ действия, который противоречил его обыкновенным чувствам. Единственная цель, которую, казалось, он мог иметь в виду теперь, состояла в том, чтоб обманывать Адама до крайней степени, добиться того, чтоб Адам был о нем лучшего мнения, чем он заслуживал. И когда он услышал слова честного извинения, когда он услышал грустный призыв, которым Адам, окончил свою речь, он был принужден радоваться оставшемуся по неведению доверию, которое под этим подразумевалось. Он не отвечал немедленно, потому что ему нужно было быть рассудительным, а не правдивым.
– Перестань говорить о нашем гневе, Адам, – сказал он наконец очень томно, потому что ему было неприятно обдумывать слова. – Я прощаю минутную несправедливость: она была весьма естественна при преувеличенных понятиях, которые ты составил себе мысленно. Я надеюсь, то, что мы дрались, не помешает нам быть по-прежнему друзьями и на будущее время. Победа осталась на твоей стороне, и этому так и следовало быть, потому что из нас обоих я, кажется, был менее прав. Ну, пожмем же друг другу руку.
Артур протянул руку, но Адам остался неподвижен.
– Мне не хочется сказать «нет» на это, сэр, – сказал он, – но я не могу пожать вам руку, пока мне не будет ясно, какое значение мы придаем этому. Я был не прав, говоря, будто вы, зная, нанесли мне оскорбление; но я не был не прав в том, что говорил прежде касательно вашего поведения с Хетти, и не могу пожать вам руку, словно считаю вас также своим другом, как прежде, пока вы не разъясните все это дело лучше.
Артур подавил свою гордость и досаду и опустил руку. Несколько минут он молчал и потом сказал, как только мог, равнодушно:
– Я не знаю, что ты понимаешь под объяснением, Адам. Я уж сказал, что ты слишком серьезно думаешь о пустой шутке. Но если ты даже и справедливо предполагаешь, что шутка эта опасна, то ведь я уезжаю в субботу, и тогда все кончится. Что ж касается огорчения, которое тебе причинило это, то я, право, очень сожалею об этом. Больше я ничего не могу сказать.
Адам не произнес ни слова, но встал со стула и обернулся лицом к одному из окон, будто созерцал черноту освещенных луною елей; на деле же он сознавал только борьбу, происходившую внутри его. Бесполезно было бы теперь оставаться при своем решении переговорить завтра, он должен говорить теперь и на месте. Но прошло несколько минут, прежде чем он обернулся и, подойдя ближе к Артуру, который продолжал лежать, остановился и устремил на него свой взор.
– Я лучше буду говорить ясно, – сказал он с очевидным усилием, – хотя мне это вовсе не легко. Видите, сэр, как бы это вам ни казалось, а для меня это вовсе не вздор. Я не принадлежу к числу людей, которые могут волочиться сначала за одной женщиной, а потом за другой, и я не думаю, что разница тут не очень велика, которую из них возьму. Любовь, которую я чувствую к Хетти, совершенно другого рода; эту любовь, по моему убеждению, могут понимать только те, кто способен чувствовать ее, да Бог, ниспосылающий ее им. Она для меня дороже всего в мире, кроме моей совести и моего доброго имени. И если справедливо то, что вы говорили все это время, если это была только пустая шалость и шутка, как вы называете это, и эта шутка совершенно кончится с вашим отъездом, ну, в таком случае я могу ждать и надеяться, что сердце ее когда-нибудь обратится ко мне. Мне становится досадно при мысли, что вы захотите говорить мне ложь, и я поверю вашему слову, какой бы вид ни имели вещи.
– Ты больше обидел бы Хетти, чем меня, не веря моим словам, – возразил Артур почти свирепо, вскочив с оттомана и сделав несколько шагов, но он тотчас же снова опустился на стул, и произнес более слабым голосом: – Ты, кажется, забываешь, что, подозревая меня, взводишь обвинения на нее.
– Нет, сэр, – сказал Адам более спокойным голосом, как бы вполовину облегченный; он имел слишком прямой характер для того, чтоб делать различие между прямою неправдою и косвенною. – Нет, сэр, обстоятельства между вами и Хетти не одинаковы. Вы, что бы вы ни делали, вы делали с открытыми глазами; но разве вы знаете, что было у нее в мыслях? Ведь она не что иное, как ребенок, о котором всякий человек, имеющий совесть, обязан заботиться. И что бы вы ни думали, я знаю, что вы привели ее мысли в замешательство. Я знаю, она отдалась вам всем сердцем, многие вещи, которых я не понимал прежде, стали мне ясны теперь. Но вы, кажется, очень равнодушны к тому, что может чувствовать она… вы об этом не думаете вовсе.
– Боже мой, Адам, да оставь ты меня наконец в покое! – неистово воскликнул Артур. – Я уж довольно чувствую это, а ты все еще больше мучишь меня.
Он заметил свою нескромность, лишь только слова сорвались у него с языка.
– Хорошо, в таком случае, если вы чувствуете это, – возразил Адам с жаром, – если вы чувствуете, что могли вызвать в ней ложные мысли и заставили думать, что любите ее, между тем как у вас в голове не было ничего подобного, в таком случае я должен обратиться к вам с требованием… я говорю не за себя, а за нее. Я требую, чтоб вы уничтожили ее заблуждение, прежде чем уедете отсюда. Вы уезжаете отсюда не навсегда; и если оставите ее при мечте, что питаете к ней те же самые чувства, какие она питает к вам, то все ее мысли последуют за вами, и несчастье только увеличится. Ваше объяснение причинит ей жгучую боль теперь, но спасет ее от страданий впоследствии. Я прошу вас написать письмо, и вы можете быть уверены, я позабочусь о том, чтоб она получила его: в нем скажите ей всю истину и порицайте себя за то, что вели себя так, как не имели никакого права вести себя с молодой женщиной, которая вам не пара. Я говорю прямо, сэр, но я не могу говорить другим образом. В этом обстоятельстве никто не может позаботиться о Хетти, кроме меня.
– Я могу сделать то, что мне кажется нужным в этом случае, – сказал Артур, приходя все в большее негодование от беспокойства и смущения, – не делая тебе никаких обещаний. Я приму меры, какие покажутся мне приличными.
– Нет, – возразил Адам резким, решительным тоном, – не того мне нужно. Я должен знать, на какой земле стою; я должен быть вполне уверен, что вы положили конец тому, чего вы не должны были никогда начинать. Я не забываю, какое уважение обязан оказывать вам как джентльмену, но в этом деле мы находимся друг к другу в отношении человека к человеку, и я не могу отступить.
Несколько минут не было ответа. Затем Артур сказал:
– Я увижусь с тобою завтра. Теперь я более не могу выдержать: я не здоров.
Произнеся эти слова, он встал и взял свою фуражку, как бы намереваясь идти.
– Дайте слово, что вы больше не увидите ее! – воскликнул Адам в порыве возвратившегося гнева и подозрения, подступив к двери и прислонившись к ней спиною. – Или скажите, что она никогда не может быть моей женой, скажите, что вы лгали, или обещайте мне то, чего я от вас требую.
Адам, вымолвив такое решительное требование, стоял как страшный образ рока перед Артуром, который, сделав два или три шага вперед, тотчас же остановился, слабый, дрожащий, больной душою и телом. Обоим казалась продолжительною внутренняя борьба, происходившая в Артуре, когда наконец он слабо сказал:
– Да, я обещаю. Пусти меня.
Адам отодвинулся от двери и отворил ее; но когда Артур дошел до ступени, то снова остановился и прислонился к дверному косяку.
– Вы не совсем здоровы и не можете идти одни, сэр, – сказал Адам, – возьмите опять мою руку.
Артур не дал ответа и тотчас же пошел вперед, сопровождаемый Адамом; но, сделав несколько шагов, снова остановился и холодно сказал:
– Кажется, я должен тебя побеспокоить. Теперь становится поздно, и, пожалуй, обо мне станут еще тревожиться дома.
Адам подал руку, и они пошли вперед, не говоря друг с другом ни слова, пока не достигли места, где лежали корзина и инструменты.
– Я должен подобрать инструменты, сэр, – сказал Адам, – они принадлежат брату. Я боюсь, чтоб они не заржавели. Подождите, пожалуйста, одну минуту.
Артур остановился молча, и опять они не произнесли ни слова, пока не достигли бокового входа, откуда он надеялся пройти в дом незамеченным. Он сказал тогда:
– Благодарю. Тебе больше не зачем беспокоиться.
– В какое время было бы мне удобно увидеться с вами завтра, сэр? – спросил Адам.
– Ты можешь прийти сюда в пять часов и сказать, чтоб мне доложили о тебе, – сказал Артур, – никак не ранее.
– Спокойной ночи, сэр, – произнес Адам.
Но он не услышал никакого ответа. Артур вошел в дом.
XXIX. Следующее утро
Артур провел не бессонную ночь: он спал долго и хорошо. Люди смущенные не лишаются сна, если только они довольно утомлены. Но в семь часов он позвонил и привел в изумление Пима, объявив ему, что намерен встать и чтоб к восьми был ему приготовлен завтрак.
– Вели оседлать мою лошадь к половине девятого и скажи дедушке, когда он сойдет вниз, что мне сегодня лучше и что я поехал верхом.

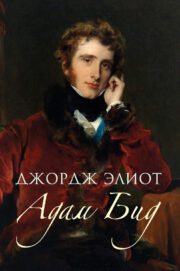
"Адам Бид" отзывы
Отзывы читателей о книге "Адам Бид". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Адам Бид" друзьям в соцсетях.