Когда она снова бросила письмо, то заметила в зеркале свое лицо, оно было красно теперь и орошено слезами, оно почти казалось ей подругой, с которой она могла разделить свое горе, которая будет сожалеть о ней. Опираясь на локти, она наклонилась вперед и смотрела в эти черные влажные глаза, смотрела на эти дрожавшие губы и видела, как слезы становились крупнее и обильнее и как рот начинал судорожно искажаться от рыданий.
Ея незначительный мир мечтаний разбился вдребезги, ее недавно родившейся страсти был нанесен решительный удар, это причинило ее жаждавшей удовольствий природе страшную грусть, которая уничтожила всякое побуждение к сопротивлению и на время прервало ее гнев. Она сидела, рыдая, пока не погасла свеча, затем, утомленная, больная, оглушенная от продолжительных слез, бросилась на постель, не раздеваясь, и заснула.
В комнату проникал слабый свет раннего утра, когда проснулась Хетти, вскоре после четырех часов, с чувством неясного несчастья, причина которого становилась ясна для нее мало-помалу, по мере того как она, при слабом свете, начинала различать предметы, окружавшие ее. Вскоре ею овладела ужасавшая мысль о том, что ей нужно скрыть свою грусть, а также и переносить ее в этот скучный день, который наступал. Она не могла оставаться долее в постели, встала и подошла к столу. Там лежало письмо. Она открыла свой сокровенный ящик: там лежали серьги и медальон – все залоги ее кратковременного счастья, залоги пожизненной тоски, которая должна была следовать за ним. При виде этих небольших драгоценностей, которых она касалась и на которые смотрела с такою любовью, как на задаток своего будущего рая украшений, она мысленно переживала те минуты, когда они были даны ей с такими нежными ласками, с такими чудными, милыми словами, с такими жаркими взглядами, наполнявшими ее чудным, восхитительным изумлением, они были гораздо сладостнее всего, что она только могла вообразить себе на свете. И этот Артур, который разговаривал с ней и смотрел на нее таким образом, который будто находился с нею даже и теперь, который, она чувствовала, обнимал ее рукою, касался своими щеками ее щек, дыхание которого смешивалось с ее дыханием, был жестокий, жестокий Артур, написавший это письмо – письмо, которое она быстро хватала, мяла и снова открывала, чтоб прочесть это еще раз. Но полуонемевшее настроение духа, которое было следствием ее страшных рыданий вчерашней ночи, необходимо заставляло ее снова посмотреть на письмо и увидеть, действительно ли справедливы были ее грустные мысли, действительно ли письмо было в такой степени жестоко. Ей нужно было держать его у самого окна, иначе она не могла бы прочесть его при слабом свете. Да! оно было даже хуже… оно было еще более жестоко. Она снова смяла его с гневом. Она возненавидела написавшего это письмо… возненавидела его по той самой причине, что привязалась к нему всей своей любовью, всею девическою страстью и тщеславием, составлявшими эту любовь.
У нее не было слез в это утро: она пролила все слезы вчерашнюю ночь, а теперь сознавала бесслезную утреннюю скорбь, которая хуже первого удара, потому что заключает в себе будущее, как и настоящее. Каждое утро во всю ее будущность, как рисовало ее воображение, она встанет и будет чувствовать, что день не принесет ей никакой радости. Отчаяние безусловно, которое является в первые минуты нашего первого большого горя, когда мы еще не узнали, что значит нервность страдания и возможность исцелиться, вынести отчаяние и снова получить надежду. Когда Хетти томно начала снимать платья, в которых провела ночь, чтоб вымыться и вычесать голову, она испытывала болезненное ощущение, что ее жизнь будет влачиться все таким образом: ей всегда придется делать вещи, в которых она не находила никакого удовольствия, заниматься старым делом, видеть людей, о которых она никогда и не думала, ходить в церковь, в Треддльстон, к чаю к мистрис Бест и не иметь никакой счастливой мысли. Ее непродолжительные, ядовитые наслаждения навсегда похитили ее небольшие радости, некогда составлявшие прелесть ее жизни. Новое платье, приготовленное для треддльстонской ярмарки, вечеринка у мистера Бриттона в брокстонский годовой праздник, поклонники, которым она будет говорить: «Нет!» долгое время, и перспектива свадьбы, которая будет наконец, когда она получит шелковое платье и множество новой одежды сразу, – все это представлялось ей теперь неинтересным и скучным; каждая вещь будет утомлять ее, и у нее навсегда останется безнадежная жажда и страстное желание чего-то иного.
Она вяло раздевалась, но теперь приостановилась, прислонясь к темному старому платяному шкафу. Ее шея и руки были обнажены, волосы падали изящными локонами; они были так же прекрасны, как в тот вечер, два месяца назад, когда она ходила взад и вперед в этой самой спальне, воспламененная тщеславием и надеждой. Она не думала о своей шее и руках в настоящее время, даже к своей собственной красоте она была равнодушна. Она грустным взором окинула скучную старую комнату и потом бессмысленно посмотрела на рассветавшее утро. Не приходило ли ей в голову воспоминание о Дине? о ее словах предчувствия, которые рассердили ее, об искренней мольбе Дины вспомнить о ней, как о друге, в день несчастья? Нет, впечатление было слишком незначительно и не могло возвратиться. В это утро Хетти встретила бы равнодушно всякое выражение дружбы, всякое утешение, с которыми Дина могла бы обратиться к ней, как и все прочее, исключая своей убитой страсти. Она думала только о том, что не может более оставаться здесь и вести прежнюю жизнь; ей легче будет перенести что-нибудь совершенно новое, нежели снова погрузиться в старый, ежедневный круг занятий. Она хотела бы убежать в это самое утро, чтоб никогда более не увидеть старые лица. Но Хетти не обладала таким характером, который смело выступает против затруднений, который решается пренебречь своим твердым знакомым положением и с закрытыми глазами ринуться в неизвестное. Ее природа была тщеславная и жаждала наслаждений, а не страстная, и на какую-нибудь сильную меру должно было понудить ее только отчаяние ужаса. Для развития ее мыслей было немного места в узком кругу ее воображения, и она скоро остановилась на одном решении, которое ей нужно выполнить для того, чтоб освободиться от своей старой жизни: она попросит дядю отпустить ее на место в горничные. Девушка мисс Лидии поможет ей найти такое место, если будет знать, что Хетти имеет позволение от дяди.
Дошедши до этого заключения, она заплела волосы и стала мыться: ей казалось теперь более возможным сойти вниз и вести себя, как обыкновенно. Она намерена спросить дядю в тот же день. Хетти должна была перенести гораздо больше таких душевных страданий, какие переносила теперь, чтоб эти страдания оставили на ее цветущем здоровье глубокий след. Когда она оделась так же красиво, как всегда, в свое будничное платье, подобрав волосы под свой крошечный чепчик, равнодушный наблюдатель был бы более поражен свежей округлостью ее щек и шеи и черным цветом ее глаз и ресниц, чем какими-либо признаками грусти. Но когда она взяла смятое письмо и положила в ящик для того, чтоб не видеть его, тяжелые жгучие слезы, не приносившие никакой отрады, не так, как большие слезы накануне вечером, выступили на ее щеках. Она быстро отерла их, ведь она не должна плакать днем: никто не должен был видеть, как несчастна она была, никто не должен был знать, как она была обманута в своих ожиданиях. Мысль о том, что глаза тетки и дяди будут обращены на нее, вызвали в ней власть над собою, которая нередко сопровождает большой страх. В своем тайном несчастном положении Хетти видела перед собою возможность, что они когда-либо узнают о случившемся, так же точно, как больной и истощенный арестант думает о позорном столбе, может быть, его ожидающем. Они найдут ее поведение постыдным, а стыд был пыткой. Это-то и была совесть бедной маленькой Хетти.
Итак, она заперла комод и отправилась к своей утренней работе.
Вечером, когда мистер Пойзер курил трубку и его добродушие в это время достигло своей высшей степени, Хетти воспользовалась отсутствием тетки и сказала:
– Дядюшка, я хотела бы, чтоб вы позволили мне идти в горничные.
Мистер Пойзер выпустил трубку изо рта и несколько минут смотрел на Хетти с кротким изумлением. Она занималась шитьем и продолжала работать очень прилежно.
– Ну, как это пришло тебе в голову, моя милая? – сказал он наконец, после того, как выпустил дым, раскурив трубку.
– Я полюбила бы то занятие… и полюбила бы его больше, нежели фермерскую работу.
– Нет, нет, милая, ты воображаешь так, потому что не знаешь того занятия. Оно и вполовину не было бы так полезно для твоего здоровья и для твоего счастья в жизни. Мне было бы приятно, чтоб ты жила с нами, пока не получишь хорошего муженька. Ведь ты моя родная племянница и я не хотел бы, чтоб ты пошла в услужение, хотя бы и в дом джентльмена, пока у меня в доме есть место для тебя.
Мистер Пойзер замолчал и принялся раскуривать трубку.
– Я люблю швейную работу, – сказала Хетти, – и могла бы получать хорошее жалованье.
– Разве тетка немножко погорячилась с тобою? – спросил мистер Пойзер, не обращая внимания на последний довод Хетти. – Ты не должна огорчаться этим, моя милая, ведь она делает это для твоей же пользы, она желает тебе добра. Немного найдется неродных теток, которые стали бы делать для тебя то, что она делает.
– Нет, я не сержусь на тетеньку, – сказала Хетти, – но мне больше нравится то занятие.
– Это хорошо, что ты поучилась немножко тому делу… и я тотчас же дал свое согласие, как только мистрис Помфрет захотела учить тебя: если случится что-нибудь дурное, так, по крайней мере, ты будешь знать не одно только дело. Но я никогда не желал, чтоб ты пошла в услужение, дитя мое. Наше семейство всегда ело собственный свой хлеб и сыр с незапамятных времен, все подтвердят тебе это – не так ли, батюшка? ведь вы не захотите, чтоб ваша внучка жила у чужих на жалованье?
– Ну уж нет, – возразил старый Мартин, растягивая слова, чтоб придать им столько же горечи, сколько и отрицания, и в то же время наклоняясь вперед и смотря на пол. – Девушка, однако ж, идет по матери. Какого труда стоило нам держать в руках, а все-таки она вышла замуж, без моего согласия, за человека, имевшего только две головы скота, тогда как ему на ферме нужно было бы иметь десять… Немудрено, что она умерла от воспаления, когда ей не было еще и тридцати лет.
Редко произносил старик такую длинную речь. Но вопрос сына упал, как искра на сухое топливо, на давнишнюю еще неугаснувшую злобу, которая всегда заставляла дедушку быть равнодушнее к Хетти, чем к детям его сына. Этот негодяй Сор-рель промотал все имущество ее матери, а в жилах Хетти текла кровь Сорреля.
– Бедная женщина, бедная женщина! – сказал Мартин-младший, недовольный тем, что вызвал жестокость, с которою вспоминал старик о прошедшем. – Впрочем, ей только не улыбнулась судьба. Но Хетти может иметь положительного, степенного мужа, какого только может иметь девушка в нашем околотке.
Вымолвив этот многозначительный намек, мистер Пойзер снова прибегнул к своей трубке и к своему молчанию, посматривая на Хетти, чтоб увидеть, не обнаруживала ли она какого-нибудь признака, что отказалась от своего необдуманного желания. Но вместо этого Хетти, против собственной воли, начала плакать, частью с досады на то, что ей отказывали в просьбе, частью же от своего горя, которое она должна была скрывать весь день.
– Ну, полно же, полно! – сказал мистер Пойзер тоном шутливого упрека, – Как можно нам плакать об этом? Пусть плачут вот те, у кого дома нет, а не те, кто желает бросить свой дом. Как ты думаешь об этом? – спросил он, обращаясь к жене, которая в это время возвратилась в общую комнату, занимаясь вязаньем с жаром и поспешностью, будто это движение было необходимым ее отправлением, как у морского рака дрожание усиков.
– Думать?.. Ну, я думаю, что вот у нас очень, очень скоро раскрадут всю домашнюю птицу, а все благодаря этой девушке, которая забывает запирать кур на ночь. Ну, а теперь что такое случилось с тобой, Хетти? О чем ты плачешь?
– Да вот, хочет идти в горничные, – сказал мистер Пойзер. – А я говорю, что мы можем пристроить ее лучше.
– Я уж думала, что она набрала себе в голову вздор какой-то. Я видела, что она целый день все ходила надувши губы и не открывая рта. А все оттого, что вот завела знакомство с этими слугами на Лесной Даче. Дураки мы были, что пускали ее к ним. Она думает, что будет жить там гораздо лучше, чем с своими родными, которые приняли ее, когда она была не больше Марти, да вырастили. Ведь она думает, что все занятие горничной состоит в том, чтоб носить платья лучше тех, в которых она родилась; будьте уверены, что она так думает. Ведь она с самого утра и до поздней ночи думает только о том, какую бы тряпку накутать на себя; и я спрашиваю ее часто, не хочет ли она стоять чучелом на поле, потому что тогда она вся будет состоять из тряпок снаружи и внутри. Никогда не дам я своего согласия на то, чтоб она пошла в горничные, до тех пор, пока у нее будут добрые друзья, которые будут заботиться о ней, пока она не выйдет замуж за кого-нибудь получше тех лакеев, которые ни то ни се, ни простолюдины, ни джентльмены, а все-таки хотят жить жирно, и которые в состоянии спрятать руки под полы своих сюртуков да заставить, чтоб жены их работали для них.

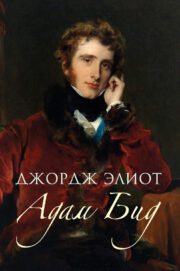
"Адам Бид" отзывы
Отзывы читателей о книге "Адам Бид". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Адам Бид" друзьям в соцсетях.