Ах, цветы… Как же любят изображать их художники! Собственно, не случайно и не напрасно — цветы так украшают жизнь! Мысли Теодоры снова уплыли в сторону — видимо, потому, что ей трудно было решиться совершить выбор, и она невольно оттягивала этот момент как могла.
Да, цветы не только украшают повседневную жизнь. Она знает, что есть и особый язык цветов — салам, тайный шифр цветочного языка, когда каждый цветок выражает свой смысл, так что влюбленные могут безмолвно говорить о своих чувствах, скрывая их от посторонних. Язык цветов пришел в Европу с Востока, скорее всего, из Турции. А само слово салам — это восточное приветствие. Язык цветов, как было известно Теодоре, не так давно был очень распространен в России, им сильно увлекалось дворянство. Например, «счастливые» клевер и сирень старались носить с собой для привлечения удачи…
Сколько же всего она слышала от людей, посещавших Маунтсоррель, чем только не полнилась ее голова!
И Теодора в который раз подумала про их сад с заросшими клумбами. А ведь ей было отлично известно также и то, что за возможность вырастить у себя иные цветы люди когда-то готовы были отдать немыслимые — если их сравнивать — вещи.
Так, тюльпан в семнадцатом веке в Голландии — самый дорогой цветок за всю историю, как люди стали специально разводить цветы! Сохранились и документы: однажды за одну луковицу этого цветка отдали ну просто фантастически непостижимую плату — 24 четверти пшеницы, 48 четвертей ржи, 4 жирных быка, 8 свиней, 12 овец, 2 бочки вина, 4 бочки пива, 2 бочки масла, 4 пуда сыра, несколько платьев и серебряный кубок. Подумать только! За одну луковицу, которая, кстати, могла и не взойти! А за три луковицы кто-то однажды купил два больших каменных дома.
Сохранилось много свидетельств и подобного рода: человек машинально, за разговором, ощипал луковицу тюльпана и — попал за это в тюрьму… Голодный матрос взял с прилавка луковицу, чтобы съесть, и за это тоже попал в тюрьму, просидев в камере полгода…
Когда же цены на тюльпаны схлынули, разорив сотни людей, и страсти несколько улеглись, тюльпаны начали «прорастать» в сказках. Обычно это были истории об эльфах, и тюльпаны были для них колыбельками. И Дюймовочка тоже родилась в тюльпане — мама читала ей, уже девочке-подростку, эту датскую сказку, сочиненную Андерсеном. Очень милая сказка. Они с мамой любили проводить вечерние часы за беседой. И гуляя, они тоже вели беседы на разные темы…
Нет, «Флору» она не отдаст. «Флора» — напоминание ей о детстве, о прогулках и разговорах, о сказке «Дюймовочка». И от этой картины исходит такое теплое умиротворение… Очень нежна и красива героиня картины: и поза принцессы Флоры, и ее ненавязчиво благородное цветочное украшение… Образец чувства меры и вкуса, колористическая нирвана…
Но какая, какая же из картин могла бы сгодиться на то, чтобы обречь ее, так сказать, на заклание?
Якоб Йорданс[15]! — почти решилась в конце концов Теодора. «Мелеагр и Аталанта», картина семнадцатого века. Да-да… Сейчас она скажет Джиму, чтобы тот приготовился отвезти ее в Лондон…
Картина Йорданса висела у них при входе — над лестницей. Переступая порог дома, Теодора непременно поднимала голову и бросала взгляд на картину, где античные герои в светлых одеждах держат в руках звериную шкуру. История же мифологического события такова. Охотник Мелеагр во главе самых отважных героев Эллады и с ним Аталанта, воспитанная с детства волками (ее отец ждал рождения сына, но, раздосадованный тем, что родилась дочь, повелел бросить ее в лесу, однако девочка выживает и становится прекрасной охотницей), отправились на охоту. Мелеагр влюбляется в Аталанту, когда они преследуют вепря, посланного на них Артемидой, разгневанной, что она осталась без положенного ей «по статусу» жертвоприношения (вот она, месть обидчивой женщины!). Вепрь побежден — Аталанта первая попадает стрелой ему в спину, Мелеагр добивает зверя и в знак любви и награды за меткость и смелость передает Аталанте голову вепря вместе со шкурой. Эту сцену и запечатлел на полотне Йорданс. Композиционный центр картины — Аталанта. Она смотрит на Мелеагра, изображенного в профиль. Плотная телом, невысокая, круглолицая, темноглазая, с забранными назад светлыми волосами, этакая чисто фламандская крестьянка, она уверенно держит в натруженных и привычных к работе руках звериную шкуру, будто домотканое одеяло, вынесенное ею для просушки на свежий воздух. На лице Аталанты — ни особенного азарта, ни явных следов затраченных на охоту усилий. Все довольно обыденно, даже смиренно. Трое других охотников позами и взглядами лишь подчеркивают преобладающее положение центральных героев.
Мелеагр и Аталанта оба в белых рубахах, с жилистыми руками, одно плечо Аталанты обнажено. Полуобнажен и крепкий торс Мелеагра. Обнаженные части тела дают светлый треугольник в центре картины, который может символизировать букву V: голое левое плечо Аталанты и правое — Мелеагра сближены, и эта тесная сближенность победившей плоти — сплоченность — держит равновесие и гармонию сцены…
Теодора привыкла к присутствию здесь этих людей, которые привыкли к физическому труду, — будто это ее хорошие знакомые, пришедшие молча донести до нее ободрение: своим спокойным уверенным видом, каким-то странным для всей ситуации ощущением уюта, возникающим от созерцания их телесной близости. Теодора принимала это для себя как знак преодоления безнадежности, посланный ей из далекой Античности. А белые рубахи на Мелеагре и Аталанте — сияли, высветляя все, что окружало картину, и Теодора всегда испытывала прилив радости, входя в дом, особенно когда за его стенами буйствовала непогода или давили низкие темные тучи, набухшие готовым пролиться дождем. С картины на нее словно каждый раз проливался свет — и ей нравилось лишний раз взглядывать на эти спокойные лица — обычные лица фламандских крестьян.
Нет! Нет, нет, нет — и еще раз нет! Йорданса она не отдаст. Без победившей злобного вепря дружной компании для нее в этом кошмарном доме и вовсе померкнет свет. Пожалуй, надо присмотреться к Рубенсу — и расстаться с одним из его полотен, выбрав то, что висит не на самом виду, не то что Йорданс… К тому же она легко могла бы скрыть от отца манипуляцию с Рубенсом, просто сказав, что стена в этом месте особенно отсырела, и она должна была перевесить картину в более безопасное место.
В самые последние дни отец был таким обессилевшим, таким апатичным, что она чувствовала: не будет он ни во что вникать! Тем более дотошно расследовать перемещение какой бы то ни было из картин. А рубенсовское полотно потом можно будет и выкупить — если Филипп, конечно, разбогатеет. Надежда на это была, однако, весьма эфемерная. Но в любом случае не стоит сразу покорно воспринимать потерю как безвозвратную.
И Теодора продолжила уборку комнат, размышляя, какую же из картин Рубенса отвезти в Лондон. Мысли об этом перемежались в ее мозгу с хозяйственными, домашними.
Мебель…
Хоть мебель и старая, но с нее недостаточно стирать пыль, ее необходимо регулярно полировать, она еще крепкая и послужит, и нужен лишь надлежащий уход за всей деревянной обстановкой, чтобы эти жилые комнаты не выглядели столь безнадежно запущенными. Но вопрос опять упирался в деньги! А их катастрофически нет.
Снова мучительные мысли о продаже картины…
Она только-только закончила возиться с каминной полкой, как послышался стук в дверь. Кто бы это мог быть? Отложив тряпку, она вышла из комнаты, которая, когда ею пользовались как гостиной, именовалась «утренней», — в холл.
Во времена ее деда холл производил неизгладимое впечатление, от которого дух захватывало, и хотелось стоять и рассматривать каждую мелочь, украшающую помещение: мраморный пол, детали резной лестницы, ведущей на первый этаж, взлетающие по обе стороны от парадной двери к покрытому росписью деревянному потолку высокие стеклянные окна.
Потолок теперь давно потускнел и патетически взывал к тому, чтобы его срочно покрыли свежей краской, иначе роспись совсем исчезнет. И лишь картины на стенах наперекор всему блистали своей редкостной изумительностью.
Теодора, привычно зацепив взглядом картины и мысленно словно бы извинившись перед ними за какую-то фатальную бездарность своей семьи, которая довела дом до такого плачевного состояния, что коллекция живописных полотен смотрелась здесь живым укором ее владельцам, быстро сбежала по лестнице и открыла дверь.
Это был их почтальон. Довольно-таки немолодой, слегка прихрамывающий, он исправно разносил почту, не сетуя на врожденное недомогание — неправильный поворот стопы, который его многодетные родители не исправили ему в детстве, хотя тогда, когда детские гибкие косточки так податливы, это было возможно. Но прошли годы, мальчик вырос. И теперь фигурка щуплого деревенского почтальона стала привычной для жителей, когда письмоносец бодро вышагивал вдоль домов и каменных изгородей своей особенной, чуть подпрыгивающей — скорее по-птичьи припархивающей — походкой.
— Добрый день, мисс Колвин! — высоким голосом приветствовал Теодору разносчик почты, держа за уголок конверт и помахивая им в воздухе. — А вам тут письмецо! Не желаете ли получить?
— Спасибо, — приветливо ответила Теодора. Ей нравился этот неунывающий маленький человечек, всегда готовый на осторожную шутку, не переходящую границ вежливости, и на доброе слово. — Как ваша жена? Надеюсь, с нею все в порядке?
— Да, в конце весны она сильно хворала, но теперь мало-помалу идет на поправку, мисс Теодора, в такую-то теплую погодку! Огород никому не позволяет болеть, мигом на ноги ставит! Верное средство! Лекарство от всех немощей! Детки тоже в здравии. Все трое.
Семья была дружная, и Теодора издали следила за тем, как подрастали детишки, и искренне радовалась, когда слышала, что все у них хорошо.
— Рада это слышать, — с улыбкой кивнула Теодора, но сердце ее сейчас сжала тревога при виде конверта в руке почтальона. Что за письмо? Приятных вестей она не ждала.
Она приняла письмо, и письмоносец, коснувшись козырька сложенными лодочкой пальцами, улыбнувшись ей на прощание, похромал себе дальше вдоль улицы, зажав под мышкой сумку с корреспонденцией.
Наверное, в конверте очередной счет… Они все еще продолжали время от времени получать письма из Лондона с не имеющими ответа вопросами: есть ли хотя бы некоторая возможность, что накопленные их семьей — начиная с ее деда — долги будут наконец выплачены.
Ответ всегда был один и тот же, и большинство писавших в Маунтсоррель Колвинам либо уже не чаяли добиться успеха в возвращении своих средств и списали их долг как невозвратный, либо, по прошествии многих лет тщетного ожидания и зряшной надежды, отошли в мир иной, не возрадовавшись отмщенным долгам.
Но в этом случае, внимательно разглядев конверт, Теодора поняла: это не счет. Конверт был из плотного дорогого пергамента, и на нем стояли печать и штамп в виде гребня, весьма впечатляющие.
Теодора вернулась в гостиную — ту самую, бывшую «утреннюю». Села в кресло, привычно переместив вес тела на одну его сторону, чтобы кресло не опрокинулось, оставив ее лежать на полу с перспективой более или менее значительной травмы ноги, головы или руки — любое увечье из предлагаемого набора ее не устраивало. Она лишена возможности томного пребывания в постели с умильными вздохами. Ее руки похожи сейчас на руки Аталанты с картины Йорданса, они стали такими же — с разработанными мелкими и крупными мышцами, по которым можно изучать анатомию, с крепкими пальцами, сильными запястьями… и это все потому, что почти вся домашняя работа совершается ее руками — и спасибо еще Джиму за его самоотверженную помощь.
Убедившись, что села правильно и ей ничто не грозит, Теодора распечатала загадочное послание. Письмо было адресовано ее отцу, но она привычно вскрыла его недрогнувшей рукой. Уже не первый месяц она читала всю корреспонденцию, приходящую в их дом, прежде чем дать что-то отцу. Она показывала ему лишь то, что могло бы его порадовать, — ради его здоровья предпринимались ею эти предосторожности. Из конверта она извлекла лист бумаги — такой же плотной и дорогой, как бумага конверта, с таким же оттиском в виде гребня.
Тем не менее, кто бы ни надписывал этот роскошный конверт, он, очевидно, и отца ее знал не слишком-то хорошо, и был не слишком сведущ в том, как правильно адресовать написанное и писать обращение в самом тексте. Здесь просто посередине конверта в отрыве от адреса значилось: «Мистер Колвин», в то время как имя адресата обычно, согласно правилам, указывается непосредственно над адресом. И еще в правильно оформленных деловых письмах в самом тексте немного ниже уровня даты и на две строки ниже обращения слева указывается адрес получателя. Здесь ничего подобного не было. И это было странным контрастом с тем, на какой бумаге было зафиксировано подобное невежество — точнее, выказано возмутительное неуважение адресату послания.

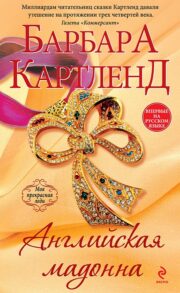
"Английская мадонна" отзывы
Отзывы читателей о книге "Английская мадонна". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Английская мадонна" друзьям в соцсетях.