Старый барон, также хромая, удалился. Вслед за ним молча ушли Гонтран и Анжелика. Старый Гийом, продолжая спорить с воображаемыми врагами, понес свое древнее копье в свое логово, хранилище исторических обломков.
Дедушка, возвратившийся в гостиную, принялся ходить взад и вперед, и дети долго не осмеливались заговорить с ним. Наконец голос маленькой девочки нарушил тишину вечерних сумерек:
— Скажи, дедушка, если разбойники оставили нам гражданские права, не унес ли их сегодня с собой этот черный человек?
— Иди к своей матушке, — сказал старик внезапно задрожавшим голосом.
Он вернулся к своему высокому креслу, покрытому истертым гобеленом, и не произнес больше не слова.
Анжелика сделала реверанс, и дети удалились.
Когда Арман де Сансе узнал о приеме, оказанном сборщику налогов, он вздохнул и долго теребил маленький пучок волос, который он носил под нижней губой по моде короля Людовика XIII.
К любви, которую Анжелика испытывала к отцу, примешивалась некоторая покровительственность. Она хотела помочь ему и избавить от — как он говорил — «обременяющих его забот».
Чтобы поднять свой многочисленный выводок, этот сын разорившихся дворян вынужденно отказался от всех удовольствий своего сословия. Он редко путешествовал, и даже совсем не охотился, не в пример своим соседям, мелким помещикам, не более богатым, чем он, но находивших успокоение от своей нищеты, при случае травя оленей и кабанов, зайцев и молодых куропаток.
Все свое время Арман де Сансе посвящал хлопотам в своем маленьком хозяйстве. Он одевался едва ли лучше своих крестьян и, так же как они, распространял вокруг себя сильный запах навоза и конюшни. Барон любил своих детей. Они были его радостью и гордостью. В них заключалась главная цель его жизни. Для Армана де Сансе на первом месте стояли дети. После них шли мулы. Уже какое-то время он лелеял мечту о разведении этих вьючных животных, не таких нежных, как лошади, и более выносливых, чем ослы. Но бандиты увели у него лучшего жеребца-производителя и двух ослиц.[31] Это была катастрофа, и он даже подумывал продать оставшихся мулов и надел, который он сохранял только ради них.
На следующий день после визита сержанта барон Арман тщательно заточил гусиное перо и устроился перед своим бюро, собираясь составить для короля прошение об освобождении от ежегодных налогов. В этом письме он собирался описать свое нищенское состояние несмотря на дворянский титул.
Сначала он просил извинить его за то, что может назвать лишь девять своих детей, но утверждал, что, без сомнения, их будет больше, потому что «он и его жена еще молоды и охочи к этому». В продолжении речь шла о его немощном отце, оставшемся без пенсии, которую он заслужил как полковник армии при Людовике XIII. Сам барон служил капитаном и мог бы получить повышение, но вынужден был оставить королевскую службу, потому что его жалованье офицера королевской артиллерии, 1700 ливров в год, «было не достаточно, чтобы удержаться на службе». Он упомянул также, что на его плечах лежит ответственность за двух старых тетушек, «для которых за отсутствием приданого не нашлось ни мужей, ни монастыря, и способных лишь на смиренный труд». На его содержании находилось четверо слуг, в том числе старый солдат без пенсии. Два старших мальчика учились в коллеже, что стоило 500 ливров только за обучение. Чтобы отправить дочь в монастырь, требовалось еще 300 ливров.
В заключение он писал, что долгие годы платит долги своих издольщиков, чтобы удержать их на плаву, и теперь задолжал налоговой палате, которая требовала 875 ливров 19 су и 11 денье только за текущий год. Таким образом, его доход, едва ли достигающий 4000 ливров в год, должен кормить девятнадцать человек и поддерживать его дворянское положение, когда, в добавление ко всем несчастьям, разбойники бесчинствовали на его землях, грабя и убивая, погружая оставшихся в живых издольщиков в еще большую нищету. Наконец, он взывал к королевской доброте и просил отсрочки выплаты налогов, аванса или пособия в размере тысячи ливров, умолял о «королевской милости» принять в качестве знаменщика в поход на Америку или Индию его старшего сына, «шевалье», обучавшегося логике у отцов-августинцев, которым он, к слову, тоже задолжал за целый год.
В добавление отмечалась его готовность взять на себя любую должность, приличествующую его дворянскому происхождению, лишь бы только она позволила ему прокормить своих близких, потому что его земли, даже если пустить их на продажу, не смогут окупить всех затрат…
Посыпав песком это длинное послание, отнявшее у него несколько часов тяжелого труда, Арман де Сансе стал писать записку своему покровителю и кузену, маркизу дю Плесси-Бельер, где просил вручить это прошение королю или королеве-матери, сопроводив его лестными рекомендациями.
Он закончил учтивой фразой:
«Монсеньор, я с радостью жду скорой встречи с вами, и если вы найдете возможность посетить нашу провинцию, к вашим услугам будут мои мулицы[32], среди которых есть превосходные экземпляры, а на вашем столе — фрукты, каштаны, сыр и творог».
Через несколько месяцев бедному барону Арману де Сансе пришлось добавить к списку своих неприятностей еще одну.
Как-то вечером на дороге послышался стук лошадиных копыт, затем на старом подъемном мосту всполошились индюки. Во дворе залаяли собаки. Анжелика, по воле тети Пюльшери сидевшая в комнате за вышиванием, тут же бросилась к окну.
Она увидела лошадь, с которой слезали два долговязых худых всадника, одетых в черное, а по тропинке вслед за маленьким крестьянским сыном шел мул, склонившись под тяжестью тюков.
— Тетя! Ортанс! — закричала она. — Смотрите! Мне кажется, это наши братья, Жослен и Раймон.
Две маленькие девочки вместе со старой девой быстро спустились вниз. Они появились в гостиной, когда школяры приветствовали дедушку и тетю Жанну. Со всех сторон сбегались слуги. Тут же послали в поле за мессиром бароном и в огород — за мадам.
Подростки с некоторым смущением наблюдали за всей этой суетой.
Им было пятнадцать и шестнадцать лет, но их часто принимали за близнецов, потому что они были одного роста и очень походили друг на друга. У обоих был смуглый матовый цвет лица, серые глаза и черные жесткие волосы, которые спускались на мятый и испачканный белый воротничок школьной формы. Они отличались только выражением лица. В Жослене было больше силы, в Раймоне — больше скрытности. Пока они односложно отвечали на вопросы дедушки, кормилица, вне себя от счастья, постелила на стол красивую скатерть и принесла горшки с пирогами, хлеба, масла и котелки с первыми каштанами. Глаза подростков засверкали. Не в силах больше ждать, они уселись за стол и начали есть так жадно и неаккуратно, что привели Анжелику в восторг.
Она заметила между тем, что они худые и бледные, и что их черные саржевые костюмы протерлись на локтях и на коленях. Разговаривая, они опускали глаза. Казалось, никто из них не узнавал ее. Раймон носил на поясе пустой рог. Она спросила у брата, для чего это.
— Для чернил, — важно ответил он.
— А я свой выбросил, — сказал Жослен.
Появились отец и мать с канделябрами в руках. Барон, несмотря на свою радость, был немного обеспокоен.
— Неужели это вы, мальчики мои? Вы даже не приезжали летом. Разве не странное время вы выбрали для каникул?
— Мы не приехали летом, — объяснил Раймон, — потому что у нас не было ни единого су, чтобы нанять лошадь или хотя бы сесть в карету, которая идет от Пуатье до Ньора.
— И если теперь мы здесь, то это не потому, что стали богаче, — продолжил Жослен.
— … А потому что отцы-августинцы выгнали нас вон, — закончил Раймон.
Повисло напряженное молчание.
— Святой Дени! — воскликнул дедушка. — Мессиры, какую глупость вы совершили, что вам пришлось нести за нее такое тяжелое наказание?
— Никакой, но вот уже почти два года, как августинцы не получали за нас плату. Они заявили нам, что другие воспитанники, чьи родители щедрее, нуждались в наших местах…
Барон Арман принялся ходить взад и вперед, что выдавало его сильное волнение.
— Нет, это абсолютно невозможно! Если вы не совершили недостойного поступка, отцы не могли так бесцеремонно выкинуть вас за дверь: ведь вы — дворяне! Может быть, отцы не знают.
Жослен, его старший сын, начал сердиться:
— Нет, отцы все прекрасно знают, и я даже могу повторить вам слова эконома, которые он бросил нам вслед: он сказал, что дворяне платят хуже всех, и что, если у них не хватает денег, нужно привыкать обходиться без латыни и других наук.
Старый барон распрямил свою впалую грудь.
— Я не могу поверить, что вы говорите мне правду: ведь у Церкви и дворянства одна цель, а сегодняшние школяры — это будущий цвет королевства. И смиренные отцы знают это лучше, чем кто бы то ни было!
В этот раз, уперев взгляд в землю, возражать стал второй мальчик, Раймон, собиравшийся стать священником:
— Отцы учили нас, что Бог умеет отличать своих, и мы, наверное, были недостойны…
— Убери подальше свои остроты, Раймон! — прервал его брат. — Уверяю тебя, сейчас для них не время. Если ты хочешь стать нищим монахом, так тому и быть! Но я — старший сын, и дедушка прав, Церковь должна уважать меня, меня и всех остальных дворян! И если теперь она предпочитает нам простолюдинов, сыновей буржуа и лавочников, — это ее право. Она сама ведет себя к гибели и разрушению!
Оба барона вскрикнули одновременно:
— Жослен, не богохульствуй!
— Я не богохульствую, я просто говорю правду. В моем классе логики, где я самый младший и второй по успеваемости среди тридцати учеников, ровно двадцать пять сыновей буржуа и чиновников, которые платят звонкой монетой, и пять дворян, среди которых только двое платят в срок…
Арман де Сансе попытался ухватиться за это слабое утешение его задетой гордости.
— Значит, еще двоих дворян выгнали вместе с вами?
— Ничуть. Родители этих должников — важные люди, которых отцы боятся.
— Я запрещаю тебе так отзываться о наставниках, — сказал барон Арман, в то время как его старый отец пробурчал, словно обращаясь к самому себе:
— Какое счастье, что король умер и не может видеть всего этого!
— Да, это счастье, дедушка, вы правы, — с насмешкой произнес Жослен. — Правда, именно смелый монах убил Генриха IV.
— Жослен, замолчи, — неожиданно заявила Анжелика. — Ты не силен в речах, и когда говоришь, походишь на жабу. И кроме того, монах убил Генриха III, а не Генриха IV.[33]
Подросток вздрогнул и с удивлением посмотрел на кудрявую девчонку, которая невозмутимо осмеливалась возражать ему.
— Ах, это ты, лягушка, болотная принцесса, Маркиза Ангелов! Надо сказать, что я совсем забыл тебя приветствовать, маленькая сестра.
— Почему ты называешь меня лягушкой?
— Потому что ты назвала меня жабой. И к тому же раньше ты вечно пропадала в зарослях и болотных камышах. Или теперь ты стала такой же чопорной воображалой, как Ортанс?
— Надеюсь, что нет, — скромно ответила Анжелика.
Ее вмешательство ослабило напряжение.
Между тем братья закончили есть, и кормилица уже убирала со стола.
Обстановка оставалась гнетущей. В смятении каждый искал выход из новой ловушки, которую подстроила им судьба. В тишине закричал малыш. Мать, тетушки и даже Гонтран воспользовались этим поводом, чтобы «пойти посмотреть, что случилось». Но Анжелика осталась вместе с двумя баронами и старшими братьями, приехавшими из города в столь жалком виде.
Она спрашивала себя, не потеряли ли они в этот раз свою честь. Ей очень хотелось задать вопрос, но у нее не хватало на это духу. Братья внушали ей что-то похожее на презрение и жалость.
Старый Лютцен, который отсутствовал во время появления мальчиков, принес новые канделябры в честь путешественников. Неловко обнимая старшего, он немного закапал его воском. Младший с пренебрежением уклонился от суровой ласки. Но старый солдат не обиделся и тут же посвятил всех в свою радость:
— В самое время вы вернулись, мальчики! Зачем вам твердить латынь, когда вы едва способны писать на своем собственном языке? Когда Фантина поведала мне, что молодые хозяева вернулись домой навсегда, я сразу же сказал себе, что мессир Жослен теперь сможет наконец отправиться в море…
— Сержант Лютцен, я должен напомнить вам о дисциплине? — внезапно сухо произнес старый барон.
Гийом не стал настаивать и замолчал. Анжелика была удивлена высокомерием в искаженном голосе дедушки. Тот повернулся к старшему внуку.
— Я надеюсь, Жослен, ты отказался от своей детской мечты стать моряком?

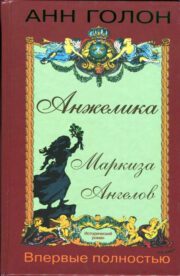
"Анжелика Маркиза Ангелов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Анжелика Маркиза Ангелов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Анжелика Маркиза Ангелов" друзьям в соцсетях.