На остановках двери не открывали. В них колотили прикладами, грозили кинуть под вагон гранату.
— Местов нету! — кричал революционный попик.
Через маленькое окно под потолком он совал местным мальчишкам котелок, чтобы они принесли кипятку. Расплачивались сухарями.
Играли в карты, дружно гоготали над анекдотами и рассказывали, на какой станции добрее начальство. Постепенно голоса стихли. Храп, треск поленьев в печке. Клим ткнулся головой в сложенные на коленях руки: то ли заснул, то ли задавил реальность воспоминаниями о вчерашней ночи:
Жарко натопленная комната; отсвет зеленой лампы на боках фарфоровых коней на комоде, на зеркальной плитке на платяном шкапу.
Отчаяние — как перед самоубийством — сливалось с теплой, пульсирующей радостью обнимать Нину, чувствовать, как она касается его небритой щеки, слушать ее голос:
— Я тебя нарисую: вот так, пальцами… Сначала скулу, потом бровь… Теперь ухо с приросшей мочкой жестокого убийцы.
— Почему убийцы?
— Не знаю… Так говорят: у кого приросшие мочки — тот способен на ужасные поступки.
Она тоже думала о завтрашнем дне, понимала, что так надо, но неосознанно обвиняла Клима в решимости поехать в Петроград и довести задуманное до конца. В решимости покинуть ее, пусть даже на время.
Клим проклинал свою беспечность: он должен был еще осенью выкрасть Нину, увезти, спасти от всего этого…
Пытался отвлечь ее:
— Нарисуй-ка мне большие мышцы, а то на советском пайке я скоро совсем отощаю.
— Не буду. Мужчина должен быть атлетически мускулист, но поджар. Порода подразумевает изящество.
Дикость какая — вышвырнуть себя из этого поблескивающего рая в гудящую от храпа, вонючую теплушку! Нужно было остаться, пропасть, погибнуть, но все-таки вместе…
Звук колес: так-на-до, так-на-до, так-на-до…
6
В Петроград прибыли только через неделю. Немцы наступали, население разбегалось, и большевики распорядились никого не выпускать из города, дабы Советское государство не исчезло за неимением подданных. Из страха перед шпионами и диверсантами в столицу также никого не впускали без особого мандата. Просидев несколько дней в Вышнем Волочке, Клим и Антон Эмильевич кое-как добились, чтобы их посадили на поезд, следующий до Петрограда: все-таки у одного был иностранный паспорт, а у другого — важная командировка (Антон Эмильевич сам себе выписал направление в Финляндию по делам газеты).
Остаток пути проделали с комфортом: почти в пустой теплушке, — зато нагляделись на переполненные поезда, следующие на юго-восток. В мороз люди ехали на крышах вагонов и буферах. Клим видел замерзших, валявшихся под насыпью; видел остатки крушений — сошедшие с рельс, разграбленные и сожженные поезда.
На Николаевском вокзале толпа осаждала кассы, громыхали сапогами красногвардейцы, где-то вдалеке слышались выстрелы.
— Немцы идут… немцы… — слышалось со всех сторон.
На Лиговской улице насколько хватало глаз стояли груженые возы: из-под брезента торчали канцелярские столы и древки свернутых знамен. Ломовики орали друг на друга, щелкали кнуты, ржали лошади. На возах сидели укутанные в платки женщины и дети.
Антон Эмильевич перевел изумленный взгляд на Клима:
— Это что за исход народов?
— Правительство в Москву перебирается, — хмыкнул стоявший неподалеку господин в каракулевой шапке. — Вместе с семьями, челядью и наложницами. Немцы сбросили в Фонтанку бомбу с аэроплана; видите, как большевиков взрывной волной разметало?
На взволнованную любопытную толпу надвинулись кавалеристы.
— Рас-сой-тис! Прочь! Прочь! — кричали они с явным иностранным акцентом.
— Латыши… — передернул плечами господин в каракулевой шапке.
— Что они тут делают? — спросил Клим.
— Правителей охраняют. Это дезертиры, как и все прочие, только русские-то по деревням отправились — делить землю, а латыши домой поехать не могут — в Курляндии и Лифляндии немцы. Вот и служат Советам за паек. Говорят, лучше наемников не придумаешь: они ни бельмеса по-русски не понимают, им даже взятку не сунешь.
Антон Эмильевич, хорошо знавший Петроград, объяснил Климу, как добраться до аргентинского посольства:
— С Невского свернешь на Литейный проспект, а там спросишь, где Пантелеймоновская церковь. Посол живет напротив. А я сейчас в Смольный — выбивать разрешение на выезд. Вечером встретимся у Хитрука. Ты запомнил его адрес?
Клим кивнул. Хитрук был старым приятелем Антона Эмильевича и, по его словам, должен был пустить их переночевать.
7
Роскошные здания как плесенью заросли рукописными объявлениями: чтобы лишить оппозиционные газеты дохода, большевики ввели государственную монополию на рекламу, и теперь все «Куплю» или «Продается» расползлись по стенам и фонарным столбам.
Торопились озябшие, сутулые человеческие фигуры; половина витрин разбито, окна — как черные пещеры. Вместо вывески над бывшим магазином — огромные буквы: «Граждане! Спасайте анархию!» Теперь даже анархию надо было спасать.
Клим быстро отыскал шестиэтажное здание с колоннами. Посольство охраняли польские солдаты в четырехугольных фуражках и длинных плащах. Он предъявил им паспорт, и караульный вызвал маленькую черноголовую сеньору секретаршу.
Клим рассказал ей, что он приехал в Россию по семейным делам и теперь хочет вернуться в Буэнос-Айрес.
— Следуйте за мной, — проговорила она.
В приемной на подоконниках и шкапах стояли оплывшие свечи.
— Электричество то и дело выключают, — пояснила секретарша. — По ночам, по правде говоря, жутко: недавно итальянского посла ограбили — отобрали бумажник и шубу. Сначала для охраны нам прислали кадетов, но когда произошла революция, мы сами были вынуждены прятать их от толпы. К счастью, сейчас есть поляки, но и на них надежды мало.
— Аргентина не признала Советы? — спросил Клим.
Секретарша взглянула на него удивленно:
— Их никто не признал: они силой захватили власть, конфисковали собственность иностранных граждан и отказались выплачивать долги России. Когда Троцкий пришел к британскому послу, тот не пустил его дальше передней.
— А Советы признают вас?
— Послы вручали верительные грамоты прежнему правительству, поэтому мы даже не обладаем неприкосновенностью. Дипломатический корпус то и дело собирается у американского посла: никто не знает, что делать — уезжать или оставаться. С одной стороны, надо защищать интересы наших граждан, а с другой стороны, говорить о каком-либо сотрудничестве с Советами нельзя. Троцкий грозит арестовать всякого, кто будет восстанавливать иностранные правительства против большевиков. Мы уже изучили план Шлиссельбургской крепости: говорят, там самые удобные камеры — с тридцатой по тридцать шестую.
Клим не ожидал, что у дипломатов так мало влияния.
— Я могу поговорить с господином послом? — спросил он.
— Я сейчас доложу о вас, — спохватилась секретарша. — Посидите здесь.
В посольстве стояла мертвая тишина, даже маятник настенных часов не двигался. Клим несколько раз прошелся по приемной, взял со столика «Правду» от 23 февраля 1918 года:
Немецкие генералы организовали ударные батальоны и врасплох, без предупреждения, напали на нашу армию, мирно приступившую к демобилизации. Но сопротивление уже организуется. Оно растет и будет расти с каждым днем. Все наши силы отдадим на отпор германским белогвардейцам!
— Сеньор Мартинес-Кампос ждет вас, — позвали Клима.
Господину послу было под пятьдесят. Элегантный костюм, подкрученные кверху усы, черные беспокойные глаза.
— Очень рад знакомству, — произнес он, протягивая маленькую крепкую руку. — Присаживайтесь. Вы давно в России? Полгода? Кажется, мы с вами были свидетелями почти молниеносного упадка великой страны. Как такое могло случиться?
— Крайне неудачное стечение обстоятельств… — отозвался Клим.
Посол взял со стола костяной ножик для разрезания бумаги, повертел в руках.
— Непостижимые изгибы славянской души, — усмехнулся он, помолчав. — Я несколько раз встречался с Лениным, это человек большой культуры, но совершенный фанатик… Кажется, единственный декрет его правительства, который пошел на пользу России, это переход от юлианского календаря к григорианскому.
Мартинес-Кампос сел за стол, сцепил перед собой руки. Запонки на его манжетах отливали тусклым золотом.
— Я советую вам уезжать как можно быстрее, — произнес он, глядя Климу в глаза. — Если у вас нет денег, правительство даст вам кредит. Но выехать можно только через Архангельск или Владивосток: границы перекрыты. Пожалуй, еще остается Финляндия, коль скоро вы сумеете получить разрешение у Советов. Если вы выберете этот вариант, я напишу бумагу в Комиссариат иностранных дел.
— Мне нужно вывезти семью, — сказал Клим. — Моей невесте запретили покидать город…
— Она гражданка Аргентины?
— Нет, но…
Мартинес-Кампос больше не смотрел на Клима. На лице его появилось утомленное выражение, как будто он заранее знал все, что ему скажут.
— Ничем не могу помочь. У меня есть директива — не выдавать виз российским гражданам.
Клим похолодел:
— Почему?!
— В Буэнос-Айресе слишком боятся, что большевистская зараза перекинется к нам.
— Даже если речь идет о супруге аргентинца? Мы поженимся, мы просто не успели оформить документы…
— Исключения не делают ни для кого. Уезжайте, сеньор Рогов, в противном случае вы погибнете. Вы не можете дать больше, чем у вас есть.
Глава 14
Богиня скоросшивателей
1
Клим быстро шел по улице. Царство бумаг — на любое действие изволь получить разрешение: карточки — пропуск к еде, мандат — пропуск в вагон, виза — пропуск к личному счастью. Принеси справку, что ты его достоин.
Черт, что ж делать-то, а? Собственной наивности можно ставить памятник. Ладно, сейчас главное — вернуться домой.
Знаменская площадь была запружена народом. Клим кое-как пробился к вокзалу, толпа внесла его внутрь. Солдат с красной повязкой на руке тормошил очумевших от бесконечного ожидания людей:
— Не спать, глядеть за вещами, а то унесут.
Очередь у касс, надрывный женский голос:
— Билетов нет и не будет! По распоряжению Председателя Центральной коллегии по эвакуации из города выезжают только женщины, дети и правительственные учреждения.
Кассирша хотела закрыть створку, но Клим не дал:
— Я иностранный журналист, мне нужно срочно попасть в Нижний Новгород.
— Иностранцам в связи с эвакуацией билеты не продаются.
Платформы оцепили кордоном. Ни с билетами, ни без билетов прорваться к поездам было невозможно.
2
По ночному небу гуляли дымные лучи прожекторов, вдали выли заводские сирены, электричества не было ни в одном доме: ждали немецких аэростатов.
Клим отыскал большой многоквартирный дом на Моховой улице, где жил Хитрук. Темная лестница, пятый этаж, из-за обитой войлоком двери слышались голоса.
Клим постучал. Ему открыла круглолицая горничная со свечой в руке.
— А мы вас давно поджидаем! — сказала она, когда Клим назвал себя. — Антон Эмильевич сказал, что вы придете. Пальто не снимайте.
В квартире было холодно, шумно и дымно. Кухарка несла кипящий самовар:
— Ой, простите — не ошпарить бы вас!
Вокруг стола, освещенного керосиновой лампой, собрались веселые вдохновенные люди в шубах.
— А вот и мой племянник — прошу любить и жаловать! — суетился Антон Эмильевич.
Клим с кем-то здоровался, не запоминая ни имен, ни лиц. Устало сел в кресло у стены. Горничная подала ему стакан чаю:
— Извините, заварка жидковата, но другой нет.
Антон Эмильевич пробрался к Климу.
— Как дела? — спросил он шепотом, чтобы не прерывать высокого седовласого оратора, ругавшего Советы.
— Дела плохо, — отозвался Клим. — Виз не будет, и билетов в Нижний не достать.
— Отказал посол? Ну и ну! — ахнул Антон Эмильевич. — Есть хочешь?
Он сбегал куда-то, принес черного хлеба.
— Борис Борисович у нас богатый, — кивнул он на оратора. — Его супруга с детьми в Киеве, а он карточки на них получает и живет как барон: семь фунтов хлеба — плохо ли?
— А у вас как все прошло? — спросил Клим.
Антон Эмильевич вытащил из кармана бумажку:

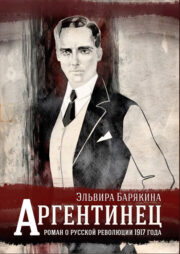
"Аргентинец" отзывы
Отзывы читателей о книге "Аргентинец". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Аргентинец" друзьям в соцсетях.