Можно, конечно, не браться за самое трудное и надеяться, что все свершится по щучьему велению. Но тогда не жалуйся, что жизнь потеряла смысл, а ты сидишь в темном углу и боишься лишний раз выйти на улицу. Не оплакивай в бессильной злобе сгоревшую усадьбу… На что замахнулась, то и получила.
— Дядь Гриш, я не буду ждать до завтра, — сказала Нина дрогнувшим голосом. — Я согласна. И вот еще что: Ефимка сказал, что ты золотом интересуешься. Вот… — Она выложила на стол гробик на цепочке и одно за другим сняла свои кольца. — Это мой вклад.
4
Жора с Еленой до вечера простояли в очереди перед острогом, чтобы передать посылку для Багровых. Свидания были запрещены. Все, чем питались арестованные, приносили родственники; все, что жрали конвоиры, кралось из этих передач.
Жора страдал, злился.
— Купцы не должны были идти на уступки! — шептал он. — Большевики поняли, что пиратская тактика работает: теперь арестам конца-края не будет!
Елена бросила на него негодующий взгляд:
— Значит, им надо было пожертвовать собой, чтобы ты мог спать спокойно?
Жора замолчал, нахохлился. Стояние в тюремных очередях вытягивало из него все силы, но отпускать Елену одну он не имел права.
Когда они вернулись домой, Нина сначала отчитала брата за то, что он не бережет горло, и только потом объявила, что к ним приехал дядя Гриша. Жора обрадовался, кинулся с ним обниматься; ему хотелось говорить, задавать вопросы, но голос совсем пропал.
— А ну марш в постель! — велел тот. — Тебе сестра сейчас липового цвета заварит.
Но когда Нина с Еленой ушли на кухню, он сам подсел к Жоре на кровать. Покосился на сваленные на тумбочке книги:
— Нина говорит, ты из гимназии вылетел. Чем занимаешься?
— К экзаменам готовлюсь, — прошептал одними губами Жора.
— В университет? Не примут.
Жора и сам знал, что не примут, но все равно надеялся на чудо.
— По документам ты не граф, а мещанин, — сказал дядя Гриша, — так что на следующий год ты, милый мой, будешь проходить восьминедельную военную подготовку. А если большевики объявят принудительный набор в Красную армию, то пойдешь в солдаты.
Жора молчал.
— Все еще мечтаешь дипломатом сделаться? — продолжал бессердечный дядя Гриша. — Они, брат, нужны тогда, когда в стране есть законы и законное правительство. Лучше записывайся на курсы медработников при Мартыновской больнице. Ты уже взрослый парень, так что буду говорить с тобой начистоту…
Дядя Гриша сказал, что после немецкого наступления большевики поняли: без регулярной армии им не обойтись. Кремль призвал на службу бывших офицеров — именно для этого их ставили на учет. За военспецами тщательно следили, пугали арестами и подкармливали пайками. До тех пор пока большевики занимались развалом вооруженных сил и делали ставку на полубандитские «красные отряды», офицерство было против них, но теперь многие считали, что дело военных — не политика, а защита Отечества, каким бы оно ни было.
— Да как же?.. — прошептал Жора.
Дядя Гриша развел руками:
— А вот так. У всех семьи, которые надо кормить. Военные привыкли подчиняться приказам и не лезть поперек батьки в пекло. Я со многими разговаривал: они бы и рады скинуть большевиков, но не видят, кто сможет потянуть такое дело. А себя они чувствуют мелкими щепками, которые куда вынесет, туда вынесет.
С трудом, со скрежетом, но большевики заново создавали армию. Когда у них появится реальная военная сила, бороться с ними будет в тысячу раз труднее. Действовать надо сейчас.
— Мы отправляем добровольцев на Дон к генералу Алексееву и готовим выступление здесь, — проговорил дядя Гриша, искоса поглядывая на дверь.
Сердце Жоры забилось.
— А в других городах?
— Там тоже свои люди: в Москве, в Рязани, в Астрахани… Как только дороги подсохнут, будет война. — Дядя Гриша поднялся. — Ты меня понял насчет курсов? Вот и славно: нам потребуются медики. Выздоравливай!
Глава 17
Предательница
1
Варфоломей Иванович Саблин нашел подработку — по вечерам читал лекции по общей анатомии. Домой возвращался поздно, чуть живой от усталости, но это было для него спасением. Если изматывать себя до предела, если целый день забивать голову делами, можно хоть ненадолго забыть о Любочке, блуднице-отступнице, проклятой стерве, любимой жене.
Тяжело припадая на покалеченную ногу, Саблин брел к себе в кабинет, зажигал лампу под матовым колпаком и открывал старую конторскую книгу с ломкими, пожелтевшими у краев листами, чтобы написать очередной план лекции.
Входила Мариша с ужином, ставила поднос на скатерть, затканную выпуклыми белыми цветами. Саблин покорно ел, не выпуская из руки самокрутку.
Каждый раз Мариша приносила новую чашку: в буфете их хранилось великое множество — все подарки больных. Когда-то у Саблина была любимица с голубым ободком и золотой надписью «В день ангела от жены». Он расколотил ее о стену, когда главврач, Илья Николаевич, сказал ему, что встретил на улице Любочку, она держала под руку солдата — крепкого, красномордого, в порыжевших сапогах и заплатанном френче.
— Я решительно не понимаю и осуждаю! — возмущался Илья Николаевич. — Как вы это позволяете? Ну хорошо, падение нравов, революционные времена… Но ведь дело кончится тем, что этот молодчик однажды пырнет ее ножом… Вы помните, вам привезли дамочку из кафешантана? Та же история.
— Если Любовь Антоновна попадет ко мне на операционный стол, я ее зарежу, — глухо сказал Саблин.
Илья Николаевич в изумлении примолк.
— Ну, знаете ли… Будете такие вещи говорить, я отстраню вас от работы.
Саблину было все равно: его как будто снова полоснуло осколком под коленом, по артерии, — жизнь вытекала из него, только теперь некому было остановить кровь.
Единственным человеком, чье общество радовало Саблина, был его ученик Жора Купин. Варфоломей Иванович крайне удивился, когда узнал, что тот решил стать медиком. Раньше Жора грезил тайнами дипломатии, а теперь с упорством занимался в анатомическом театре и делал вид, что его не смущают ни тяжелый запах, ни столы с трупами. Несколько раз он присутствовал на операциях и при этом умудрялся не только все подмечать, но и болтать с сестрами о сливочном масле и ценах на пшено. «Наш человек», — улыбнулся про себя Варфоломей Иванович.
Саблину было неудобно говорить с ним о чем-то другом, кроме медицины. Только однажды он спросил:
— О Рогове что-нибудь слышно?
Тот покачал головой:
— Нет.
Саблин хотел узнать, как поживает Нина, но так и не решился задать вопрос. Она была подругой Любочки и, кажется, покрывала ее. Наверняка и она считала Саблина «ограниченным, черствым, зацикленным на себе фанатиком». Именно так заявила ему жена, когда он потребовал объяснений.
Для Саблина это было ударом: он привык, что если не все, то многие относятся к нему с уважением и симпатией. И вот получи — оказалось, что он «эгоист, не способный на глубокие чувства».
Варфоломей Иванович стал сомневаться в себе и в других: приглядывался, прислушивался — неужели все видели его в таком свете, а он даже не осознавал этого?
— Ты обсуждал со мной только то, что интересует тебя, — презрительно бросила Любочка. — Я уже слышать не могу про кишечных бактерий! Ты никогда не думал обо мне!
Саблин напомнил ей, что как раз на прошлой неделе он предложил ей покупать молоко у одной женщины, которая держит корову. Это было бы полезно для здоровья.
— Да пошел ты к черту со своей коровой! — огрызнулась Любочка и ушла, хлопнув дверью.
Леденея, Саблин спросил на следующий день:
— Ты хочешь развестись со мной?
Любочка кивнула, но больше они к этой теме не возвращались. Жили каждый в своей комнате, говорили друг другу «доброе утро» и «добрый вечер». Саблин клал деньги на комод, Любочка их подбирала и делала так, чтобы в доме была еда. Где она пропадала целыми днями, Саблин не знал и не хотел знать, потому что, если представлял жену в объятиях другого, ему, «не способному на глубокие чувства», хотелось воткнуть себе скальпель между четвертым и пятым ребром.
2
Однажды после лекции Жора подошел к Саблину:
— Варфоломей Иванович, у меня к вам поручение…
С тех пор и началась их незаметная дружба. По словам Купина, по всему городу была рассредоточена сеть верных людей, которые помогали делу восстания. В тайниках хранилось оружие, в подвалах заброшенных фабрик офицеры обучали стрельбе вчерашних гимназистов.
Варфоломей Иванович мог только удивляться: откуда у семнадцатилетнего юноши столько решимости и отваги? В его возрасте Саблин и его друзья увлекались рыбалкой и коллекционированием марок, а Купин и его приятели были людьми совсем иного толка: поджарые, воинственные, непреклонные. Вся молодежь сходила с ума: никогда раньше Саблин не видел такого количества юношей и девушек, готовых к драке — как за свободу, так и за место в трамвае. Что тут первично: войны и революции возникают благодаря тому, что народилось особое задиристое поколение, или молодежь приспосабливается к тому, что есть, и учится грызть и огрызаться?
Саблина восхищала их смелость, а зачастую и жертвенность, но насколько страшно было думать о том, что им совершенно не свойственно сочувствие к ближнему! И у красных, и у белых общее преобладало над частным, доброта приравнивалась к слабости, настороженность и недоверие — к воинскому долгу.
Саблин как-то спросил Жору:
— Какой вы видите Россию после победы над большевиками?
Тот сказал, что первым делом надо судить и расстрелять чекистов и всех тех, кто был причастен к грабежам и насилию. Восстание обещало быть кровавым.
— Хорошо, — кивнул доктор, — а что потом?
— Потом будет Учредительное собрание, которое и решит, по какому пути идти дальше.
Опять двадцать пять: простодушное желание поменять слагаемые местами. Откуда-то из народных, прости господи, глубин должны появиться мудрецы, которые приведут всех к счастью. А что, если нет никаких мудрецов? Кто попадет в это Учредительное собрание? Сельские счетоводы, пролиставшие за всю жизнь три десятка книг, из которых половина — романы Вербицкой[22]? Что они могут знать об экспортных и импортных операциях? О налогообложении, кредитовании и военном деле? Как без этих знаний можно управлять страной и находить верные решения? Варфоломей Иванович со своим высшим образованием и немалым жизненным опытом не взял бы на себя такую ответственность. Но из двух зол приходилось выбирать меньшее: он согласился помогать заговорщикам и добывал для них лекарства и перевязочные материалы.
3
Вернулась «проклятьем заклейменная» Любочка. Саблин почувствовал, как с левой стороны под реберным хрящом что-то противно заныло. Она поговорила с прислугой, потом отправилась на кухню — он все слышал или, может, чуял обострившимся до предела слухом. В доме Саблина постоянно висел вопрос: «А что дальше?» Как быть, если ты знаешь, что у Любочки есть любовник — поганый негодяй, вор с немытыми лапами? Она бы ушла к нему, да только он жил в казарме — куда ей там приткнуться?
Легкие шаги…
— Все работаешь? — Любочка заглянула в кабинет, и Саблин ощутил цветочный запах ее духов.
Он ничего не ответил и принялся выводить по-латыни слова римского философа Боэция: «Величайшее несчастье — быть счастливым в прошлом».
Любочка села в кресло. Саблин не смотрел на нее, только следил краем глаза за ее отражением в стеклянной дверце книжного шкапа. Она сняла с подола приставший волос, взглянула на него на свет:
— По мне не разберешь, то ли я седеть начала, то ли все еще в порядке. Знаешь, где я сегодня была?
— М-м?..
— На заседании женской ячейки. Решали, как нам строить пропаганду среди работниц, ведь у большинства ужасно низкая самооценка. Заговариваешь о рабстве в браке, о талантах, загубленных горшками и кастрюлями, а тетки смотрят на тебя непонимающе. Советская власть освободила их от уз церковного брака, дала право на свободный развод, а они считают, что так только хуже: теперь мужчины могут наделать детей и преспокойно исчезнуть.
Любочка замолчала, ожидая ответа Саблина, но он продолжал вычерчивать латинские фразы: «Мы всегда стремимся к запретному и желаем недозволенного» (Овидий, «Любовные элегии»).
— Вообще в женском вопросе царит полная неразбериха, — вновь подала голос Любочка. — Слышал, в Саратове кто-то выпустил Декрет о национализации женщин? Но это еще что! Во Владимире создали Бюро свободной любви и велели всем женщинам от восемнадцати до пятидесяти лет регистрироваться, чтобы мужчины могли выбрать себе даму сердца. В интересах государства, разумеется.

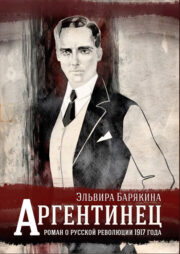
"Аргентинец" отзывы
Отзывы читателей о книге "Аргентинец". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Аргентинец" друзьям в соцсетях.