Хитрук негодует, переживает и пьет порошки от головной боли. Он уже не знает, как «будить народ»: что еще с ним надо сделать, чтобы тот пришел в себя и хотя бы попробовал защищаться?
Борис Борисович расспрашивал меня об аргентинской печати:
— Стало быть, ваш президент Иригошен гарантировал свободу прессы?
— Ну да. И первое, что сделала пресса, — начала его клевать.
— Вот бы нам таких политиков!
Я намекнул на то, что свобода прессы в Аргентине ограничена не законом, а волей влиятельных семей, которые владеют газетами, но было поздно: Хитрук уже решил, что рай на земле существует.
Он вынужден подчиняться большевикам: если газету окончательно прикроют, то без работы останутся два десятка человек. Кроме того, неуживчивый Борис Борисович может навлечь беду не только на себя: в его квартире то и дело ночуют скрывающиеся от милиции члены кадетской партии.
У меня стойкое ощущение, что даже Бог запутался в наших делах и подал в отставку: делайте что хотите. С упорством жука-скарабея я катаю навозный шарик из возможностей и денег — эдакий древнеегипетский символ солнца и жизни. Работаю у Хитрука внештатником. Все началось с того, что я предложил ему поместить на первой полосе мою статью с крупным заголовком: «Универсальные заменители колониальных товаров — чая, кофе и пр.», чтобы привлечь интерес к газете. Борис Борисович возмутился и сказал, что не станет менять направление с остросоциального на кухонное, но я убедил его, что трудно придумать более наглядную иллюстрацию к нынешним временам. Продажи сразу подскочили. Теперь у Хитрука распоряжения Совнаркома по левую сторону, а по правую — «Рожь и пшеница в зернах: что приготовить с использованием минимума дров?». Показательно и невинно — ни один цензор не придерется.
Помимо газет Хитрук издает мои воспоминания о босяцкой юности: рецепты тегеранских голодранцев, шанхайских кули и эмигрантов Буэнос-Айреса. Выходят они на прекрасной оберточной бумаге, без обложки, отлично продаются, и, по слухам, от которых млеет тщеславное сердце автора, мои брошюрки бережно хранят и передают от отца к сыну.
Целыми днями я сижу у Дурги в швейцарской и перевожу казенные чернила на бессмертную рукопись «Поваренная книга неунывающего интеллигента». Я расспрашиваю гостей Хитрука об их способах выживания; Дурга ставит условие посетителям домоуправления: справка в обмен на толковый рецепт. У меня набралось больше десятка различных способов приготовления селедки — без жиров и овощей.
Я диктую, Дурга печатает на машинке:
— Мучная каша. Залить кипятком полстакана ржаной муки и мешать, пока не разобьются комочки.
Расхлябанный «Ундервуд» гремит, на столе подскакивают скрепки и крышка от курильницы.
— А потом? — останавливается Дурга.
— Всё, каша готова.
— Может, сахарину еще?
— Буржуйка выискалась! Ржаная мука и так сладкая. Хотя соль не помешает.
Я хожу в Публичную библиотеку и извлекаю из пыльных томов сокровенные знания: «Полезные растения и грибы нашей губернии». Для бедных мы печатаем «Суррогатный хлеб и допустимые примеси в нем», для богатых — «Леденцы, помадки и сухаро-сахар». Моя гордость и отрада: «Способы домашней выгонки» — так целомудренно называется пособие по изготовлению самогонных аппаратов. На очереди двухтомник по двенадцать страниц на книжку: «Радости влюбленных» и «Средства предохранять себя от беременности».
В мае я официально превратился из принца в нищего: большевики выпустили декрет, отменяющий право наследования — папенькино имущество перешло в достояние республики. Но я все-таки являюсь владельцем маленькой коробки из-под конфет, внутри которой спрятаны гонорары, полученные от Хитрука. Я берегу ее как зеницу ока и ношу в нагрудном кармане, который застегивается аж на три крючка.
Я обедневший царь Кощей, я чахну над златом и все еще надеюсь унести свою Василису в тридевятое царство, где ее не достанет богатырь-народ, которому лишь бы украсть чужую жену. Он, бедняга, именно так понимает молодецкую удаль.
Телеграммы от граждан не принимаются — кабель занят правительственными сообщениями. Послать в Нижний Новгород гонца, чтобы разузнал, что там и как? Потратить на это драгоценные банкноты, пропахшие давно съеденным, дореволюционным шоколадом? Но я должен торопиться, должен достать украинские документы до того, как большевики опомнятся и прикроют эту лавочку.
Насколько Дурга счастливее меня! Она верит гаданиям и способна работать на хорошем предзнаменовании, как фонарь на батарейке. А если заряд иссякнет, она тут же наново раскидает карты: что-нибудь приятное да выпадет. Впрочем, и я много недель подряд работаю на иллюзиях. Каждую ночь, ложась спать в хитруковской диванной, я отодвигаю в сторону свое привычное не-бытие и наполняю комнату отблесками моей чудесной, страшной, невозможно счастливой зимы.
Освещенная двумя огарками ванная комната; в колонке тлеют угли. Нина хочет умыться, и я напрашиваюсь к ней в помощники. Встаю за ее спиной так, чтобы видеть в зеркале и себя, и ее. Опускаю руки в нагретую воду, провожу ладонями по ее лицу. Капля течет у нее по шее, Нина пытается вытереть ее, но я не даю. Целую эту каплю, потом излучину волос на затылке…
Кажется, что не ценил всего этого… или ценил, но не в полную силу. А теперь уже поздно: земля раздалась, и моя любовь провалилась в трещину. Я не знаю, где Нина, что с ней, жива ли она вообще? Я не знаю, правильно ли я делаю, оставаясь в Петрограде и пытаясь добыть документы. Борис Борисович говорит: «Будь у меня деньги, я бы дал вам всю сумму сразу, но вы же видите, сколько людей приходится кормить. Не отчаивайтесь. Все будет хорошо».
А отчаяние, признаться, нередко заглядывает в мою диванную. Иногда мне кажется, что уже поздно и ничего не вернуть.
2
Клим и Хитрук ехали в типографию. Белая ночь, трамвай, хрипящий, как загнанное животное, усталая нежность к прóклятому городу, к сонным, но всегда готовым к отпору пассажирам. На стенах домов — многочисленные афиши о танцах, в том числе в бывшем Дворянском собрании. На ажурных перилах Николаевского моста — мальчишки-рыболовы.
Петроград немного похож на Буэнос-Айрес — те же прекрасные архитектурные излишества, прямые улицы и ощущение Большой воды где-то рядом. И еще — привычная жажда чуда, которое наконец изменит твою пропащую жизнь.
Вагон потряхивало на поворотах: с одной стороны дремал, взявшись за поручень, Борис Борисович, с другой — старуха о чем-то шепталась с Богом. На сиденье — икающий матрос, любитель ювелирного искусства, судя по брошкам, которыми вместо пуговиц был застегнут его бушлат.
В последнее время Клим все чаще ловил себя на нелепом, диком дежавю: всё это уже было с ним.
Он как-то говорил Нине, что жертвам и обязательствам не место в личной жизни и отношения надо сохранять лишь до тех пор, пока они приносят удовольствие. Врал, конечно, повторяя давно придуманную формулу самозащиты. Но на это у него были свои причины.
Клим никогда не рассказывал Нине, как он попал в Аргентину: слишком унизительной казалась та история. Ему было двадцать лет, он жил в Шанхае и был влюблен в китайскую танцовщицу по имени Джя-Джя. Англичанин, хозяин компании, где служил Клим, узнал, что тот собрался жениться на цветной, и поставил вопрос ребром: в его фирме не место тем, кто забывает о чести белой расы. Клим послал его к дьяволу, но в тот же день полиция Международного поселения арестовала его и силком посадила на уходящий пароход. Расисты платили капитанам судов за вывоз из Китая влюбленных ренегатов, чтобы у туземцев даже мысли не возникало о том, что они могут породниться с белыми.
Оказавшись в Буэнос-Айресе, Клим из сил выбивался, чтобы поскорее скопить деньги на обратный билет. Старался быть ироничным зубоскалом, посмеивался над собой и обстоятельствами, а на самом деле сходил с ума от тоски и злости на судьбу.
Вскоре ему прислали телеграмму: Джя-Джя устала ждать и нашла себе новую любовь — поближе и побогаче.
Клим помнил холодную мглу внутри, когда он точно так же, как сейчас, ехал в вагоне и пытался собраться с мыслями. По мышцам проносились судороги, пальцы так крепко стискивали поручень, что рука потом ныла недели две.
Он опять загнал себя в ту же ловушку и невольно боялся повторения. У любой женщины есть инстинкт — вить гнездо. Если мужчина не может обеспечить условий для этого — по любым причинам, — она разочаровывается: не столько в нем как в человеке, сколько в жизни вообще. И тогда ей хочется все поменять, взять и сломать привычную схему.
Если Нина не дождется Клима, ее не в чем будет упрекнуть. Он обещал ей помощь, а сам бросил одну в обезумевшем городе. Кому какое дело, что он выкручивает себе руки, чтобы спасти ее? Важен результат: если ты не можешь справиться с задачей, то ни на что не претендуй. Живи один и довольствуйся временными подружками, которые не вызывают в душе ничего, кроме жалости и досады. Никого другого ты не заслуживаешь.
Клим сразу не женился на Нине потому, что никогда не думал о формальностях как о чем-то значительном. Их любовь казалась такой естественной — кому и что еще надо доказывать? Только перед отъездом он понял, насколько важен был для Нины официальный брак.
Клим опять поймал себя на мысли, что ее нельзя судить по себе. Он был обитателем мегаполисов, равнодушным к соседским и родственным связям, а она всю жизнь провела в небольшом городе, в котором все держится на том, что о тебе думают кумушки в соседних дворах.
«Ты никогда ничего в ней не понимал. Если она бросит тебя, так тебе и надо — за твою беспечность, за неумение смотреть вглубь, за отсутствие здравого смысла».
Клим корежил нервы сомнениями, надсаживался, а потом все равно делал то, что задумано: ехал с Борисом Борисовичем в типографию, проверял оттиски — и надеялся, что всё не зря.
3
В типографии было сыро, тесно и накурено. Станок в таком виде, будто его вынесли из исторического музея: он печатал только одну полосу и приводился в действие колесом-штурвалом.
Узкоплечий лысый старик колдовал над наборными кассами. Борис Борисович готов был на него молиться: когда-то тот служил в синодальной типографии, а это многое говорило о грамотности и внимательности.
На завтра у Хитрука была заготовлена «бомба»: вопреки мольбам редколлегии, он решил опубликовать отчет о выборах в местные Советы — по всей России опять побеждали меньшевики и эсеры.
— Люди не хотят большевиков! — заверял он метранпажа.
Тот усмехался:
— Эсеров и меньшевиков они тоже не хотят. Только голосовать больше не за кого — вашу-то партию к выборам не допустили. Впрочем, вы бы все равно проиграли: народ в каждом, кто носит галстук, видит сытого богача, хотя у иного крестьянина денег куда больше.
Дверь распахнулась от сильного удара, и в типографию ворвалась толпа военных:
— Встать к стене! Руки вверх!
Отпечатанные номера газеты конфисковали, матрицу уничтожили, набор рассыпали. Типографию реквизировали для нужд культурно-просветительского отдела.
Во время ареста Борис Борисович хорохорился:
— Отлично, на Гороховую на автомобиле поедем! — Но в машине все же горестно шепнул Климу: — Доигрались… Больше газеты не будет.
Клим не ответил. Во время обыска у него изъяли коробку с деньгами.
До следующего вечера их продержали в унылой комнате, похожей на больничный покой. Потом всех вместе вызвали к следователю, который был давно знаком с Хитруком.
— Поймите, Борис Борисович, если вы будете вредить советской власти, мы вас накажем. Вы сами понимаете: журналисты, издатели и писатели — это мыльные пузыри, калифы на час. Как бы беспощадно вы нас ни громили, мы закроем газету, и все — нету вас.
Работникам типографии велели на следующий день явиться на службу, а Климу — выметаться из страны в двадцать четыре часа:
— Вы для нас лицо нежелательное.
Следователь был мудр, милосерден и безукоризненно вежлив. После того как были оформлены протоколы, он даже раскланялся с арестованными:
— Всего хорошего. Я вас больше не задерживаю.
Клим сунул в карман паспорт с аннулированной визой.
4
Когда они добрались до дома, Борис Борисович тут же засел за телефон:
— Передайте Ивану, чтобы ехал на дачу!
Клим подошел к окошку, прижался лбом к холодному стеклу.
Надо устроить себе раздвоение личности. Вот есть «Я номер один» — ему впору выброситься с пятого этажа. А есть «Я номер два» — спокойный и невозмутимый небожитель. Первому надо отдать все несчастья, второму — все силы. Второй смотрит на первого с высоты, сочувствует ему и во всем помогает. Второй — это и есть Клим Рогов. А первый — любимый домашний зверь, о котором надо заботиться. Убеди себя, что это так, иначе свихнешься. Запомни: это все происходит не с тобой.

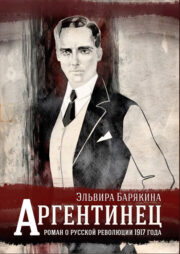
"Аргентинец" отзывы
Отзывы читателей о книге "Аргентинец". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Аргентинец" друзьям в соцсетях.