— Кто желает, чтобы земля вновь перешла помещикам, поднимите руки! — крикнул Троцкий.
Толпа на площади молчала, только приблудная коза чесала о трибуну облепленный репьями бок.
— Кто готов горбатиться на фабрикантов от зари до зари? Кто желает, чтобы одни жили в особняках, а другие ютились по десять человек в комнате?
Лица суровые, челюсти сжаты. Дурачок Максимка, пастушонок, попытался пробиться к трибуне:
— Коза там моя… Отдайте Христа ради!
Суровые латыши схватили его под руки, козу за рога — поволокли.
Троцкий снял фуражку, отер вспревший лоб:
— Вопросы есть?
— Когда Бога разрешат? — раздался над площадью голос Максимки.
Нарком усмехнулся и, сойдя с трибуны, направился к «сюрпризу». Рывком сорвал со статуи покрывало:
— Вот вам бог!
Толпа вздрогнула. На вкопанной в землю мраморной колонне стоял бюст сатира.
— В течение многих веков служители культа рассказывали народу о Люцифере, — выкрикнул нарком, показывая на подарок французских промышленников. — Так кого мракобесы называли нечистым? Кого смертельно боялись? Первого революционера! Люцифер отказался подчиняться дряхлому Богу и восстал против его деспотии. Так пусть на земле, по которой попы и обманутые ими дураки веками ползали на коленях, будет стоять памятник гордому духу, который не склонился, несмотря на изгнание из рая и проклятия во веки веков!
Оркестр грянул «Интернационал».
Клим искоса взглянул на Пухова — тот, выпучив глаза, смотрел на сатира:
— Как он сюда попал?! Ведь это же скульптура из банка! Помнишь, она выпала из ящика и Тарасов передал ее тебе?
Послышался гул моторов, и из облаков вынырнули два аэроплана.
— Белые!
Ряды смешались, солдаты бросились врассыпную. Спрыгнув на землю, Клим и Пухов закатились под автомобиль.
— Сейчас бомбу кинут!.. Сейчас кинут! — голосил Леша, закрывая голову руками.
Но вместо бомб с неба просыпался дождь из листовок. Вслед удаляющимся аэропланам загремели выстрелы.
Клим потянулся, чтобы взять листовку, но Пухов тут же вырвал ее:
— Не трогай!
Он принялся торопливо собирать бумажки: мял их, запихивал себе за пазуху.
— Отставить панику! Встать в строй! — орали комиссары, сами перепуганные до полусмерти.
Клим выбрался из-под автомобиля и, прячась за спинами, отступил к церковной ограде. Свернул на Успенскую улицу, побежал. Вниз по откосу, по дороге, ведущей на станцию…
Пухов наверняка спросит у Троцкого, откуда взялся серебряный сатир, и наверняка расскажет наркому о том, кто таков Клим Рогов — дезертир, мародер и проходимец. Следствием станут две пули — Климу и Нине.
3
Окна госпитального вагона были открыты. Дни напролет Нина смотрела сквозь просвет между белыми занавесками на крапиву у забора, на проходившего мимо часового, на бродячего лишайного пса.
— Прогоните его! — кричала сестра милосердия. — Нечего собакам тут шляться!
Она не знала, что Нина тайком отщипывает кусочки хлеба и бросает их за окно.
Когда не можешь встать, когда дико скучно, можно получать удовольствие от непослушания. Или от прикосновений. Кто бы мог подумать, что вокруг столько приятных на ощупь предметов!
Например, отполированный сучок на стенной панели — гладкий, чуть выпуклый.
Атласное нутро лесного ореха — если разломить ядрышко по естественном стыку.
Питьевая сода — попросишь сестру принести тебе чайную ложечку: слегка коснешься нежного порошка, помнешь его в пальцах…
За ширмой два матроса со сломанными ногами бесконечно травили анекдоты или рассказывали о своих девках — с матерком, анатомическими подробностями, но очень смешно.
Возможно, это было нервное: когда доктор запрещает смеяться (чтобы швы не разошлись), любая ерунда доводит до изнуряющего хохота. Нина просила матросов замолчать — они еще пуще веселились. Она накидывала на голову одеяло, но укрыться от скабрезных баек не было никакой возможности.
Утром к Нине приходил суровый Гавриил Михайлович со свитой. В его присутствии все замирали, даже из-за ширмы доносилось только «Так точно, доктор» и «Никак нет».
Гавриил Михайлович осматривал Нину, качал лысой, в пигментных пятнах головой и всегда говорил одно и то же:
— Вы, голубушка, совсем запустили себя.
Непонятно, что это означало: то ли все плохо сейчас, то ли все было плохо раньше.
Доктор разворачивался, сестра предупредительно распахивала перед ним дверь, и медики удалялись.
После обеда приходил Клим. Все думали, что он муж Нины. Сестры милосердия улыбались, когда он поднимался в госпитальный вагон: Клим все время чем-то одаривал их — приносил то букет надерганных вдоль забора ромашек, то несколько папирос, то еще какую-нибудь мелочь. Нине было приятно, что девицы суетятся вокруг него, и в то же время они отнимали драгоценное время — Скудра отпускал Клима буквально на полчаса.
На станции происходило что-то небывалое: переселение народов, нашествие, все десять казней египетских. Но поток людей и событий обходил госпитальный вагон стороной. Дни Нины были заполнены ожиданием и страхами.
— Я все устрою, ни о чем не беспокойся, — говорил Клим.
Но как не беспокоиться, если неизвестно, что случилось с Жорой и Еленой? Если к Нине несколько раз заглядывал аккуратный латыш в кожанке и на хорошем русском языке справлялся о ней самой и о Климе: кто они и откуда? Она притворялась, что ей плохо, и он уходил, но осадок — неотмывающийся, как жирная копоть, — оставался.
Нина была привязана к госпитальному вагону: куда она сбежит от куриного бульона, чистых бинтов и морфия? Именно ради этого Клим продавал себя Скудре, выматывался, не спал ночами, жил бог весть где…
Во время свиданий он садился рядом с Ниной, и они шепотом рассказывали друг другу, как перетерпели эти окаянные шесть месяцев, как было страшно потеряться навсегда и какое это счастье — узнать, что тебя ждали и всегда будут ждать.
— Я нашел для нас пафосную аллегорию, — сказал Клим, показывая Нине сдвоенное проволочное кольцо. — По отдельности мы с тобой нули, но вместе из нас получается символ бесконечности и совершенства. — Он разогнул колечко и сделал из него восьмерку ∞. — Кстати, знаешь, что это за штука? Это кольцо от чеки гранаты.
Клим целовал Нину на прощание, ерошил ей остриженные кудри — его смешила ее детская прическа.
— До завтра…
Стоял у ширмы, делая вид, что ему что-то надо сказать, но он забыл что, — на самом деле просто растягивал время.
— Ну ладно, счастливо.
Удаляющиеся шаги, скрип прикрываемой двери, потом стук в окно и снова ритуал прощания — с улыбками и нарисованными рожицами на пыльном стекле.
Он уходил, и Нина долго смотрела на опустевшую платформу. Внутри плескалось солнечное тепло… Очень хотелось замуж за Клима и очень хотелось иметь от него детей.
4
Вечерело. Где-то хором пели красноармейцы, на соседних путях маневрировал маленький паровоз.
— Нельзя! Нельзя сюда! — послышался голос сестры. — Да что вы — в кабак явились?
Топот, грохот сбитого столика на колесах… Ширма отлетела в сторону. Клим подошел к Нине, наклонился к ней:
— Я должен забрать тебя. Обними меня за шею.
Она испугалась, заметила краем глаза, как на них в изумлении смотрят соседи-матросы.
Клим поднял Нину вместе с одеялом. Шов внизу живота отозвался резкой болью.
— Потерпи, родная…
Клим вынес ее на платформу.
— Вы с ума сошли! — кричала вслед сестра. — Я все доктору скажу!
Вдруг ахнул близкий пушечный разрыв, зазвенели стекла. Нина прижалась к груди Клима:
— Что это? Откуда стреляют?
Он не отвечал. Шел быстро — мимо станционного здания, мимо высыпавших на платформу людей, с тревогой смотревших в густо-синие сумеречные небеса.
У дороги их поджидала телега. Мальчик-возница встрепенулся:
— Если опять из пушек будут лупить, я никуда не поеду.
Клим уложил Нину в сено, прикрыл ее одеялом.
— Сейчас отправимся к Саблину, — проговорил он ей на ухо. — Здесь нельзя оставаться… Если что, ты меня не знаешь, ты — беженка из Казани. Поняла?
Нина вцепилась в его руку:
— Что случилось?!
— Все после расскажу. Ох, боюсь, растрясет тебя по дороге…
Клим поцеловал ее в лоб и сел на козлы.
— На, держи, — сказал он, сунув мальчику пригоршню патронов. — Если проболтаешься о том, кого и куда ты вез, я тебе шею сверну. — В голосе Клима звучала угроза — такого Нина еще не слыхала.
Глава 27
Смысл жизни
1
В древнем соборе Успения Богородицы был устроен дополнительный госпиталь: раненые лежали на соломе чуть ли не вплотную друг к другу.
Артиллерия в районе железной дороги била не переставая — под куполом эхом отдавался каждый удар. Во фронтовой газете говорилось, что ни один белогвардейский пароход не сможет пройти мимо батареи у излучины: она простреливала Волгу от берега до берега. Но если это так, то кто же лупил сейчас по станции?
Громадное паникадило качалось под потолком, столетние цепи жутко скрипели.
— Ну-кось упадет такая дубина! — тревожно шептали раненые.
Окна давно выбили, но воздух в храме был смрадный и спертый. Расставленные тут и там огарки едва освещали исхудалые лица; настенная роспись тонула во мраке.
Саблин — небритый, взлохмаченный — показал Климу, куда положить Нину — после переезда по ухабистой дороге она была чуть жива от боли.
— Не беспокойтесь, я присмотрю за ней, — пообещал доктор. — Хорошо, что вы ее сюда привезли: на станции, кажется, бой.
После стерильной чистоты госпитального вагона — гнилая солома, вши, сотни мужиков в вонючих повязках.
Саблин присел рядом с Ниной, поднес огарок к ее лицу:
— Как вы?
— Ничего… — выдохнула она.
Клим поправил ее одеяло. У него голова шла кругом. Что надо было делать? Подкараулить Пухова и убить его, чтобы он не выдал их? Или все-таки правильно сделал, что перевез Нину сюда? Да, молодец, здесь она подхватит тиф, и пиши пропало.
Доктора позвали к другому раненому, и он ушел, а Клим еще долго сидел с Ниной и прислушивался к пушечному грому.
На колонне прямо перед ним был изображен святой рыцарь с собачьей головой. Хочешь выжить — ударь первым, превращайся в пса-воина, вон как этот… герой нашего времени.
— Это Анубис? — спросила Нина. Она не спала и тоже смотрела на фигуру в алом плаще. — Помнишь, в твоей книге был египетский бог с головой собаки?
У Клима холод пошел по спине: Анубис — повелитель Царства Мертвых.
— Да бог с тобой, это же православный храм.
Снаружи раздался сосущий вой, и стены собора вздрогнули от разрыва. Все свечи разом задуло.
— По нам лупят! — заголосили раненые из темноты.
— Ну, тихо! Тихо! — прикрикнул Саблин. — Без паники!
Клим нагнулся к Нине:
— Я сейчас. Надо узнать, что происходит.
Кое-как пробравшись между ранеными, он вышел на улицу. Вокруг никого не было — все попрятались. Тучи разогнало, и в ясном небе светила полная луна. Ветер трепал листья тополей у паперти.
— Клим, это ты? — позвал кто-то.
Он пригляделся: сестра Фотиния. Очки ее смутно поблескивали в лунном свете.
— Вот и хорошо, что я тебя встретила, — прошептала она. — Пойдем, мил человек, тебя-то мне и надо.
Она ухватил Клима за руку и потащила за собой. Он вырвался:
— Что вы задумали?
Сестра Фотиния встала на цыпочки, чтобы дотянуться до его уха:
— Забери своего черта! — жарко проговорила она. — Ты его приволок, с тебя и спрос! Я бы сама его своротила, да сил нету!
Клим оглянулся по сторонам:
— Так его же хватятся!
— Забери! — упрямо повторила сестра Фотиния.
Они быстро пошли к Соборной площади. Сатира действительно нужно было спрятать, чтобы Пухов не смог доказать, что это именно та скульптура, которая пропала из банка.
Но памятника Люциферу уже не было над откосом. Белая колонна валялась на земле, расколотая на три части. Сердце Клима екнуло: неужели Пухов уже забрал скульптуру? Только через мгновение он догадался, что постамент сбило взрывной волной, а бюст упал с обрыва.
— Шею бы не сломать, — чертыхался Клим, спускаясь по косогору. Влажная трава скользила под ногами.

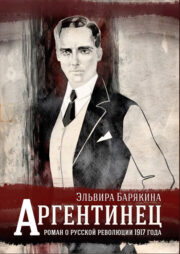
"Аргентинец" отзывы
Отзывы читателей о книге "Аргентинец". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Аргентинец" друзьям в соцсетях.