— К сожалению, знаю.
Глава 34
Матросский университет
1
Матросский университет устроили в здании бывшей Мариинской гимназии на Ильинке. Антон Эмильевич тоже напросился в лекторы. Растрепанный, потный от усердия, он читал почесывающимся «братишкам» когда собственные рассказы, когда Устав и Программу партии.
Но это была не та публика, к которой привык Антон Эмильевич: матросы не понимали его иронии и не могли оценить любопытных исторических параллелей. Пропаганда делала свое дело: они прочно усвоили, что являются «красой и гордостью революции» и все, в том числе презренные лекторишки, обязаны им кланяться. Они перебивали, могли посреди лекции встать: «Мне до гальюна надо…» У Антона Эмильевича опускались руки: никакого уважения к образованию, к культуре… Сами спать ложатся в обуви, сморкаются в два пальца, чуть что — сразу крик поднимают: «Почему в суп картохи не докладывают? Скажи на кухне, чтоб не воровали, а то зенки повышибаем в два счета!»
А Антон Эмильевич тут при чем? Что он мог сделать?
— Товарищи, я хочу прочитать вам повесть о благородном рыцаре.
Морды тупые, равнодушные… Кто-то жевал табак, кто-то в носу ковырялся.
Вдруг в классе за стеной раздался взрыв хохота.
— Да что это такое?! Совершенно не дают заниматься! — сердился Антон Эмильевич. Зло брало, когда он видел, что все прислушиваются не к его словам, а к тому, что происходит у соседей — там вел занятия Клим.
На переменах матросы курили и делились впечатлениями. Антон Эмильевич шел в деканат сквозь радостно матерящуюся, ржущую толпу:
— У нас был суд над проституткой Подзаборовой, которая соблазнила солдата Крестьянинова. Боцман был за бабу — в платок нарядился, к Ваське Щербатому приставал: всего его облапал. Мы так и покатывались… А завтра товарищ Рогов обещал похороны суеверий устроить. Ребята уже гроб для них сколотили.
Клим развел бешеную деятельность по увеселению матросов.
— Неудивительно, что они тебя так любят, — усмехался Антон Эмильевич. — Рыбак рыбака видит издалека…
Но к его негодованию и возмущению, Клима любили не только матросы. Вечерами в актовый зал, где проходили его публичные лекции, набивалось несколько сотен народу, и это уже была совсем иная публика: барышни, студенты…
Антон Эмильевич сходил полюбопытствовать, хотя тема показалась ему самой заурядной: «Коллектив и индивидуум».
В зале яблоку негде было упасть. Слушатели дрожали от холода, переминались с ноги на ногу, туманное марево от дыхания плыло над головами, и сквозь него блекло светили электрические лампы.
Клим не осуждал прямо советскую власть, но вместо того, чтобы воспевать движение народных масс, он говорил о том, что во все времена находились люди, готовые в одиночку отстаивать принципы гуманизма; что истинная храбрость заключается не в том, чтобы подниматься в атаку вместе с тысячами других бойцов против назначенного врага, а в том, чтобы не подчиняться неправедному приказу, не поступать против совести, даже когда тебе грозит наказание… Нужно самому выстраивать вокруг себя мир, который не стыдно будет передать детям и внукам. Это не чужая ноша — государства, партии или коммуны, — это твой крест.
Слушатели не смели переглядываться с соседями, что-то обсуждать, спрашивать. Все глаза были устремлены на лектора.
— У одних людей ценности — свобода и вера в собственные суждения и силы, — говорил Клим. — Их лозунг: «Я сам!» Другим подавай уважаемого царя и дармовщину. Они сомневаются, что что-то значат сами по себе, им важно прибиться к религии, учению, толпе или вождю. Поэтому они всегда стоят не за истину, а за «наших». Первые не могут выжить без свободной информации — иначе как самостоятельно судить об окружающем мире? Вторые не могут без строго дозированных указаний — чтобы ни о чем не думать, не принимать трудных решений, не сомневаться и, главное, ни за что не нести ответственности. Именно поэтому они всячески открещиваются от свободы слова и волеизъявления. Столкновение этих миров и есть квинтэссенция современной политики. Толпа затаптывает человека, она насаждает свои правила, но… что она будет делать без индивидуалистов? Наука и искусство — любой вид деятельности, где важен личный талант, — не создаются толпой. Значит, ей придется либо терпеть индивидуалиста, либо скатываться в полную дикость и обходиться без изобретателей, писателей, композиторов… словом, без цивилизации как таковой.
Каждый из слушателей знал по личному опыту, что большевики, на словах стремящиеся к коллективизму, на самом деле добились лишь чудовищного разобщения: никто никому не доверял, все совместные действия делались из-под палки, под угрозой расстрела, увольнения или доноса.
Клим говорил, что плодотворное сотрудничество возможно только тогда, когда в тебе видят личность, когда ты уверен, что твои интересы будут приниматься во внимание. А если этого нет, то можно создавать любые художественные мифы о «единой воле народа» — на практике каждый человек будет заботиться только о себе и своей семье, потому что на других у него не остается ни сил, ни времени.
Слушатели выходили из зала молчаливые, потрясенные: настолько все это шло вразрез с официальными понятиями добра и зла. Но больше всего удивляли не слова лектора, а то, что он смел их произносить, как будто не сомневался, что слушатели его не выдадут, или как будто он жил в стране, где всякий имеет право высказывать свое мнение.
— Много надо иметь гражданского мужества, чтобы говорить такое в открытую, — сказал Антону Эмильевичу какой-то человек с кардинальской бородкой. — Но это попахивает то ли беспросветным отчаянием, то ли позерством, близким к сумасшествию.
— Да он дурак просто! — в сердцах бросил Антон Эмильевич.
Такой племянник мог подвести под монастырь. Вернувшись домой, Антон Эмильевич вызвал Клима на разговор и в весьма резких выражениях сказал, что если тот намерен подставлять свою шею — это его дело, но тогда он должен немедленно покинуть его дом. Потом Антон Эмильевич побеседовал с Ниной:
— Вы хотите овдоветь второй раз? Вам мало, что вашего брата расстреляли?
Он с удовлетворением послушал, как она распекала Клима. Тот каялся и обещал не искушать судьбу.
Потом ему досталось от Осипа. Антон Эмильевич несколько сгустил краски, когда передал ему то, в чем Клим наставлял публику. Осип орал так, что Мариша со страху разбила супницу. Но и она была согласна с тем, что Клима надо приструнить:
— Ишь, распустился! Думает, раз его на трибуну пускают, так ему сам черт не брат.
Любочка кое-как сумела утихомирить Осипа.
— Ну что там? — спросил Антон Эмильевич, когда она появилась на пороге его комнаты.
— Осип сказал, что если нечто подобное повторится, он сам пристрелит Клима как изменника революции.
Антон Эмильевич хрустнул пальцами. Он страшно жалел, что в порыве человеколюбия его дочь прописала у себя Клима. Теперь его не выгонишь: он наверняка будет судиться за жилплощадь… Припугнуть, что донесешь на него или сдашь в ЧК его Нинку? А вдруг он в ответ наябедничает, что товарищ Шустер ругает советскую власть? Куда ни кинь, всюду Клим…
— Как бы нам спровадить его отсюда? — спросил Антон Эмильевич у Любочки. — Сколько Клим намерен тут жить? Его бы выпустили из города как иностранного подданного, да он из-за Нинки домой не едет. Было бы из-за кого мучиться — как будто в Аргентине судомоек не хватает! Впрочем, там бы ему еще скорее башку проломили.
Любочка нахмурилась:
— Ты о чем?
Антон Эмильевич показал ей выписку из бюллетеня Иностранного отдела Российского телеграфного агентства:
7 января 1919 года в Буэнос-Айресе начались массовые беспорядки, которые вылились в столкновения с полицией. Виновными были объявлены коммунисты, и в течение нескольких дней толпа под крики «Смерть русским!» громила дома и магазины, принадлежащие эмигрантам из России. Погибло более семисот человек, более четырех тысяч ранены.
Любочка забрала у отца листок и направилась к двери:
— Надо Климу показать.
— Не надо! — закричал Антон Эмильевич. — Он же тогда насовсем у нас останется!
Любочка оглянулась:
— Вот и прекрасно!
2
El cuaderno negro, черная записная книжка
Когда-то я едва сдерживался, чтобы не упрекнуть Нину: «Почему ты не поехала со мной, когда еще можно было уехать?» Я думал, что тогда бы мы спасли и себя, и Жору. Но, наверное, у Нины лучше моего развит инстинкт самосохранения. Если бы мы оказались в Буэнос-Айресе, нас наверняка бы пристрелили — все знали, что я русский.
Семьсот убитых — невозможно поверить, что добрые портеньос[32] могли сотворить такое.
У меня опускаются руки. Нина и Софья Карловна думают, что найдут тихую гавань во Франции — черта с два! И там будет все то же самое — мы останемся для всех чужаками, непонятными и потому виноватыми во всех бедах.
Бежать некуда — мир сошел с ума. Разве что уехать на край земли, в Патагонию, чтобы кругом ни одной живой души — только синие горы в снегу, хрустальные озера и трава, идущая волнами под свежим ветром. Построить эстансию[33] и разводить овец — ей-богу, лучше, кажется, не придумаешь. Только моя жена никогда на это не пойдет: Софья Карловна уже соблазнила ее парижскими планами. Франция не пугает Нину — она когда-то была там, она знает французский, а мне, признаться, уже все равно.
После публичной лекции в Матросском университете домашние напали на меня со всех сторон, обвинили в глупости, в эгоизме, в недальновидности: «Откуда в тебе тяга к самоубийству?»
На самом деле это тяга к нормальной жизни, и ее очень сложно преодолеть. Если мне есть что сказать, если я вижу, что люди хотят это услышать, для меня более чем естественно поговорить с ними, просто поделиться тем, что на душе.
По той же причине я не хочу и не могу преподавать абы как. Нина спрашивает: «Что ты пытаешься доказать этой матросне? Они безнадежные дикари, и ты их не исправишь!»
А я не пытаюсь исправлять. Я показываю, что есть много способов прожить жизнь; бывают люди такие, бывают другие — и каждый имеет право на существование, если не мешает соседям.
Война — это глухота и немота. Помалкивать, не пытаться объяснить себя — это поддерживать состояние войны. Видеть в матросах только буйных дегенератов — это воевать. А ведь с ними можно ладить! Они просто другие, и их надо принять такими, как есть, — тогда все становится на свои места.
Я не говорю о том, что все должны обниматься друг с другом. Делайте что хотите, но я терпеть не могу Любочку и не испытываю симпатии к дяде Антону, единственная радость которого — это умиление перед пайком и возможностью читать новости из-за границы. Я говорю о базовых принципах: не нравится человек — не общайся с ним, но не пытайся уничтожить его или переделать по собственному образу и подобию!
Осип Другов велел мне рассказывать на лекциях о грандиозных планах советского правительства по коллективизации и механизации общества: «У нас все будет действовать по заранее прописанным схемам!»
Вот он, идеал: полностью предсказуемая бесстрастная машина, выдающая продукт — человеческий и производственный — без сучка без задоринки, прекрасный в своей шаблонности. Осип не понимает, что без отклонения от нормы развитие в принципе невозможно. Да дело даже не в этом: если человеку позволять только слушаться и копировать, то он разучится делать что-то иное. У него атрофируется способность к творчеству, а ведь это одно из величайших удовольствий на земле. Отказываться от него — это все равно что лишать себя любви.
Смысл машины — не в том, чтобы создать аэроплан, а в том, чтобы научиться летать. И подражать надо не паровозу с его ненасытной топкой, не конвейеру, а Леонардо да Винчи, Галилею, Дарвину, Эдисону, Льву Толстому — людям думающим, неравнодушным и достаточно смелым, чтобы сойти с наезженной колеи и отправиться на поиски новых путей.
Впрочем, мои возмущенные заметки не имеют смысла. Нина думает, что это очередная глупость — хранить записную книжку, которая может стоить мне жизни. Что ж… поступим по уму. Все равно поздно что-либо оплакивать: мы давно живем в братской могиле.
3
Нина вошла в комнату, распустила узел на платке:
— Ты жег бумагу?
Клим сидел у печи и мешал кочергой угли. На полу валялся пустой кожаный переплет.
— Что случилось?!
— Ничего. Просто решил избавиться от свидетеля. Побудь со мной.

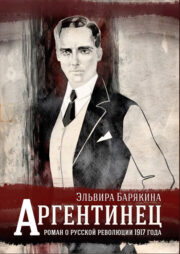
"Аргентинец" отзывы
Отзывы читателей о книге "Аргентинец". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Аргентинец" друзьям в соцсетях.