Нина вошла, поставила мокрый зонт в угол:
— Ну что, едем домой? — Матвей Львович возил ее до дома на служебном автомобиле.
— Сейчас, сейчас…
Он рылся в бумагах, ничего не мог найти, чертыхался, закуривал папиросу, бросал ее в пепельницу… Нина стояла у окна и, заложив руки за спину, покачивалась с пяток на носки. Подол ее черной юбки был влажен и слева забрызган грязью — она не умела ходить аккуратно по лужам.
— Нина Васильевна…
— М-м?..
— Подойдите сюда.
Она приблизилась, и Матвей Львович, проклиная себя последними словами, усадил ее на колени.
Нина не вырвалась, не сказала ни слова, а ему хотелось смять ее, как мнут облигации прогоревшего банка. Все свершилось настолько сумбурно и глупо, что Матвей Львович ничего после этого не помнил, кроме того, что от боли глаза у Нины становятся сине-зелеными: странный, красивый, но жутковатый цвет.
Потом он застегнул штаны и сказал:
— Идите, мне еще надо поработать. Шофер отвезет вас. — Он не мог представить, как сядет с ней в автомобиль, как она будет молчать, отвернувшись к окну, и вытирать платком искусанные губы.
Матвей Львович выдержал без нее ровно два дня. Грузный, вымокший и несчастный, приехал к ней домой на Гребешок, ввалился в гостиную, где ее младший брат Жора читал книгу:
— Где Нина Васильевна?
— Ее нет.
— Я подожду.
Матвей Львович просидел целый час. Жора — рослый семнадцатилетний мальчик — предложил ему чаю, сигару, ужин, последний анекдот… Матвей Львович закрыл пылающие веки: «Мне ничего не надо…»
Нина пришла, сняла шляпку.
— Пойдемте ко мне, — сказала, не поднимая глаз.
Стены шатались вокруг Матвея Львовича, весь мир крошился в пыль. Застрелиться тут же, перед ней? Задушить ее и потом застрелиться?
Нина села боком на стул, положила локоть на спинку, подбородок — на запястье.
— Мы взрослые люди, — проговорила она серьезно. — У меня совсем не было денег, я погибала: Жоре за гимназию нечем было платить… А вы мне помогли. Я этого не забуду.
Господи, такая дурочка! Она считала, что поступила правильно, даже гордилась этим. Могла бы ничего не давать взамен — а тут пастушье бесхитростное благородство: ты мне — я тебе. Она совсем не думала о Матвее Львовиче.
5
Танго смолкло. Нина Васильевна пошла за аргентинцем к его столику.
Матвей Львович был недостоин ее любви: он отплясал свое двадцать лет назад, его девочки-оленята остались в прошлом веке.
Он приблизился к Нине.
— Пойдемте домой, — произнес, не замечая прокурорского сынка, не слыша его «Добрый вечер».
Сжать Нинину руку посильнее — там ничего не останется, кроме кровавых лоскутков и костяной крошки.
— Пойдемте, — повторил Матвей Львович.
— Я не могу, мне надо…
Он наклонился к ней, шепнул так, чтобы никто, кроме нее, не слышал:
— Не доводите до греха.
Пошел прочь, слыша, как сдвинулся ее стул, как аргентинец позвал:
— Нина Васильевна!
«Если останется с ним, убью обоих…» — Револьвер привычно оттягивал карман брюк.
Она нагнала его на улице:
— Матвей Львович, ну что вы?..
Он остановился, тяжело дышащий, страшный… Едва сдержался, чтобы со всего маху не дать ей кулаком в лицо. Подкатил автомобиль, шофер распахнул дверцу.
— Садитесь, — приказал Матвей Львович.
Вслед за ней повалился на заднее сиденье, машина под его весом накренилась и заскрипела.
— Значит, так… — медленно произнес он, когда автомобиль подвез их к белому дому на Гребешке. — Я сегодня ночью уезжаю в Петроград. А вы завтра уезжаете в деревню и до моего возвращения даже носу тут не показываете.
— Матвей Львович!..
Он чувствовал ее страх. Схватить бы за волосы и шарахнуть головой о стену.
— Вы понимаете, что произойдет, если вы не послушаете меня?
Нина дернула плечами, поджала губы:
— Я все понимаю.
— Тогда идите.
Он проследил, как она поднялась на крыльцо, как открылась и закрылась парадная дверь. Ослабев, Матвей Львович откинулся на спинку сиденья, потер воспаленные глаза.
— Вези домой, — тихо приказал водителю.
6
Клим добирался домой пешком. Шел быстро, дышал прерывистым яблочным ветром, не запачканным ни дневной керосиновой гарью, ни лошадиным потом. Яблок в садах столько, что ветки трещали от тяжести: за заборами то и дело слышались мягкие удары о траву.
Ниночка, кудрявое чудо… Это папаша увел тебя домой? Ничего-ничего, отыщем, украдем, если надо — будем втираться в доверие к папаше, выпьем с ним пива, поговорим о чем ему больше нравится.
В голове — все тот же мотив танго; на руке от кончиков пальцев до сгиба локтя — все то же чувство, застывшее в мышечной памяти, — как обнимал тебя.
Нина Васильевна спросила Клима, почему он пошел в журналисты. Он сказал, что есть вещи, на которые не жалко тратить себя: слушать умных, смеяться над глупостью, узнавать новое и создавать что-то свое. Журналистам за все это еще и платят.
— Вам повезло, что вы знаете, чего хотите, — проговорила она.
Ее хотелось забрать себе, присвоить, принести домой на руках, крепко прижав к груди. Накормить, рассмешить и потом целовать — долго и нежно. Хотелось так отчаянно, что Клим не знал, что с собой делать, и прикусывал губу, чтобы отвлечься болью.
Пропал с потрохами. Шел по ночной жаркой улице — вскрытый, вытряхнутый наизнанку и счастливый.
Наверху что-то зашуршало, и Клим, сам не сообразив как, поймал на лету большое желтое яблоко. Хотелось чудесного? Знака судьбы? Получи: что-то произойдет — то ли изгнание из рая, то ли открытие нового закона притяжения.
7
Саблин уже вернулся — в прихожей стояла его выходная трость, на крючке висела шляпа. Скомканные дамские перчатки валялись на подзеркальном столике. Любочка ушла из ресторана передав через официанта, что у нее разыгралась мигрень.
В доме было тихо, только во дворе лаяла собака, да с реки доносились пароходные гудки: там разводили понтонный мост.
Клим собрался подняться к себе, как вдруг услышал, что в саблинской гостиной кто-то рыдает с горьким надрывом. Он открыл дверь. Посреди темной комнаты в кресле-качалке сидела Любочка. Она быстро раскачивалась, будто старалась перевернуться. Свет от настольной лампы освещал ее запрокинутое лицо, зажмуренные припухшие веки.
— Что с тобой?
Любочка вздрогнула, будто увидела грабителя, вскочила:
— Уходи!
— Да что случилось?!
Клим подошел к ней, взял ее за плечи. Внезапно Любочка обвила руками его шею и поцеловала в губы.
Клим отпрянул:
— С ума сошла?! Саблин увидит!
— Пусть видит! — воскликнула Любочка и вдруг опомнилась, резко смахнула слезы. — Извини, я шампанского перебрала… Самой стыдно… Я пошла спать…
Она выскочила в коридор, но через секунду вернулась:
— Да, а насчет Нины не обольщайся: она тебе денег должна. Много.
Клим не знал, что и думать: Любочка имела на него виды? Но это глупость какая-то — у нее есть муж; он, кажется, хороший человек, и он любит ее…
Что она имела в виду, сказав про Нинины долги?
Клим поднялся в свою комнату, открыл сейф, вытащил папки с документами. Облигации с наполовину вырезанными купонами, контракты, векселя… В глаза бросилось имя: «Одинцов Владимир Алексеевич».
Пять лет назад муж Нины занял у старшего Рогова двадцать тысяч рублей под семь процентов годовых, а в обеспечение оставил свой дом на Гребешковском откосе. Подпись нотариуса, печать, марки гербового сбора; срок платежа — 1 ноября 1917 года.
Глава 5
Неравный брак
1
Когда свершилась Февральская революция, Жора Купин вместе с толпой полетел к острогу освобождать политических заключенных. Он срывал орлов с казенных вывесок и кричал: «Вот кому жареное крылышко?! Налетай-разбирай!» Свобода пьянила; нет больше царя — да здравствует светлое будущее!
Старшие классы Первой губернской мужской гимназии поделились на партийные группировки: кадетские, эсерские, монархистские… Спорили до хрипоты, иногда до драки… На каникулы Жора ушел с тоскливым ощущением даром потраченного времени. Мальчишки и педагоги обустраивали Россию и весь свет, и в результате всякая учеба в гимназии прекратилась.
В следующем году Жора собирался наверстать упущенное и потому все лето упорно занимался, удивляя домашних самодисциплиной. Он метил высоко и мечтал о дипломатической карьере. Само время подталкивало к этому выбору: Жора верил, что если бы послы всех держав сумели договориться, никакой войны не было.
Он считался первым учеником по истории и иностранным языкам, читал философов, от Аристотеля до Ницше, и все искал свои будущие идеалы, которым можно отдаться без остатка.
Революцию он больше не поддерживал: уличные ораторы говорили, что в ее пламени сгорят социальные пороки, а на деле оказалось, что никакое это не пламя, а серная кислота, которую выплеснули на Россию и обезобразили ее до неузнаваемости.
Вместе с политическими заключенными из тюрем вышло около тысячи уголовников: их еще в начале войны перевели в Нижний Новгород из Варшавы, чтобы они не взбунтовались в пользу немцев. Воры и убийцы растеклись по губернии. Полицию в бунтарском угаре уничтожили — жалуйся, кому хочешь.
Бессмысленная война продолжалась, патриотизм стал ругательным словом… Революционеры отвергали само понятие Российского государства — как будто не было десяти веков свершений и постепенного роста от захудалого княжества до одной из величайших стран мира.
Пока Жоре больше всего нравилась идея, вычитанная у Якоба Буркхардта[8]: государство надо рассматривать как произведение искусства — рассчитанное и продуманное творение. Но сколь далека была эта прекрасная идея от того, что творилось вокруг!
Учиться! Жора обкладывался монографиями и справочниками, гнал себя, будто боялся опоздать, быть неготовым к чему-то серьезному и важному. Он жил в предчувствии, что после хаоса Февральской революции должна наступить другая эпоха — и тогда как раз потребуются люди, способные служить своей стране не абы как, а с глубоким пониманием.
Единственное, что останавливало Жору, это бедность — у его сестры не было денег на дорогие книги, и ему приходилось копить, подрабатывая где только можно: репетиторством и сочинением стихотворных поздравлений и эпитафий.
2
Ночью Нине опять снились кошмары. Она вышла к завтраку неприбранная, в шелковом капоте, распадающемся на груди. Налила себе чаю, долго размешивала его ложечкой, хотя сахара не положила.
— Скорее всего, мы потеряем этот дом, — произнесла она наконец.
Жора молчал. Слышно было, как в углу тикали большие старинные часы с эмалевым, покрытым мелкими трещинами циферблатом.
Жора знал, что Нина голову сломала, думая, как быть с прокурорским наследником. Дядя Гриша первым случайно встретил его на пароходе; как приехал, сразу бросился к Нине:
— Иди к нему! Он так по дому соскучился, что на радостях может дать тебе отсрочку.
Нина отправилась на Ильинку, но быстро вернулась, пунцовая от возмущения.
— Он оскорбил тебя? — с тревогой допытывался Жора.
Она не хотела сознаваться, но потом все-таки сказала, что Рогов принял ее за горничную.
— Все равно поговори с ним! — настаивал дядя Гриша. — А если наследник заберет дом, то и бог с ним. Пока война не кончится, будете жить у меня в Осинках. Не бойтесь, по миру не пойдете.
Жора с тоской прислушивался к его словам. Как жить в деревне, если надо заканчивать гимназию? Готовиться к университету? Как можно уехать, если тут — Елена Багрова?
— А что, если у Матвея Львовича попросить в долг? — спросил Жора, прекрасно понимая, что уж этот вариант Нина обдумала в первую очередь.
— Фомин не может вынуть из кармана двадцать семь тысяч. У него деньги не в сундуках лежат: все вложено в акции, в предприятия. В любом случае, Матвей Львович уехал в Петроград.
— А если с Еленкиным отцом потолковать?
— Смеешься?
Елена Багрова была из семьи пароходчика-старообрядца: влезать к ее отцу в неоплатные долги — значит навсегда потерять надежду жениться на ней.
Нине с Жорой не полагалось ни особняка, ни университетов, ни богатства. Брак мещаночки Купиной и графа Одинцова был ошибкой природы, божественным недосмотром. Она изо всех сил пыталась выбиться в люди, чтобы не повторить дурной судьбы родителей, но жизнь несла ее по проложенным рельсам, с которых если и сойдешь, то только под откос.

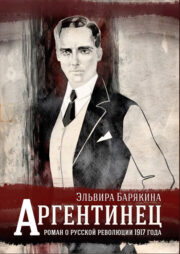
"Аргентинец" отзывы
Отзывы читателей о книге "Аргентинец". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Аргентинец" друзьям в соцсетях.