Обычная схема. Все делается для любимой невестки. Но минимум полчаса — до «Электрозаводской», и столько же — обратно. Это если с пробками будет везти по-прежнему.
Если же трафик станет более похож на обычный, то успеешь только сказать маме «здравствуй». И даже позвонить Пифу нельзя — это значит, что Марат опять обратит на своего старого дружка-соперника пристальное внимание. Пристальное и недоброе.
Михаил Никандрыч сочувственно посмотрел на свою пассажирку в зеркальце заднего обзора.
– Не грусти, дочка, — неожиданно сказал он. — Все само собой как-нибудь наладится.
– Надеюсь, — тихо ответила Дуняша. От нежданного сочувствия глаза повлажнели. И тут же появилось опасение: если водитель легко читает ее чувства, как она будет прятать их от всепроникающего взгляда свекра?
– У меня самого дочка, — продолжил Никандрыч. — Постарше тебя на пару лет. Такая любовь была, не поверишь — и по водосточной трубе ее парень лазал, и клумбы в парке обрывал… Она его два года ждала из армии. Мальчишке, соседу нашему бывшему, отказала. Теперь тот — программист в Англии. Свой дом с садиком. С женой уехал, женился совсем недавно.
– А дочка ваша? — зачем-то спросила Дуняша.
Не надо было спрашивать.
– С дочкой сложнее, — нахмурился Никандрыч. — Поженились с Игорем, первый ребеночек сразу народился. Потом Игорь стал выпивать, потом — ширяться.
– Он и сейчас на игле? — ужаснулась пассажирка.
– Нет, сейчас нет, — ответил водитель. — Дочка полжизни, наверное, потеряла, но его из омута выдернула. Даже второго родила, тоже пацана.
– Значит, все в порядке, — успокоилась Дуняша.
Рано успокоилась.
– Игорь ее бросил, — сказка у Никандрыча явно оказалась без хорошего конца. — Женился на медсестре из больницы, куда его дочка устроила. На его лекарства все деньги истратила, даже обручальное кольцо продала. Ну да теперь оно ей и не нужно, — мрачно закончил шофер.
– Ты поняла, к чему я? — после паузы спросил Никандрыч.
– Нет, — честно ответила Дуняша.
— Надюха сейчас тоже могла бы в Лондоне жить, в своем доме с садиком, а не куковать в нашей халупе. У меня зарплата неплохая, но на пятерых роскошно не получается. Так что радуйся тому, что имеешь. Теперь поняла?
– Теперь поняла, — вздохнула она.
А вот и приехали.
Белая панельная пятиэтажка с темно-красными торцами одиноко стояла в большом дворе, окруженная уже современными панельками — высокими, довольно симпатичными, отделанными плиткой под желтый кирпич.
– Я скоро приду, — сказала Дуняша Никандрычу.
– Не торопись, — буркнул тот. — Дороги пустые, долетим мигом.
– Спасибо, — поблагодарила девушка.
Родной подъезд не поменял внешнего вида. Обшарпанные, небрежно покрашенные синей краской стены, щербатые бетонные ступеньки и раньше-то ремонтом не баловали, а кто же теперь, перед грядущим сносом, будет ремонтировать?
Запахи тоже остались прежние. У входной двери тянуло сыростью из подвала. Большой висячий замок преграждал туда дорогу бомжам, однако не являлся препятствием для запаривания от худых систем отопления и для специфического кошачьего запаха.
В детстве они с Пифом не раз проникали в запретное темное пространство и даже однажды набрели на только что родившихся котят. Пиф, разумеется, сразу захотел оказать им первую помощь, но мамаша, дворовая трехцветная кошка, была против. Она так яростно шипела и поднимала лапу с выпущенными когтями, а глаза так страшно сверкали в свете их фонариков, что Дуняша сумела уговорить Пифа отказаться от затеи. Так и выросли тогда котята, не познав добрых рук местного Айболита. Выросли, кстати, вполне здоровыми.
Странно — подъезд и раньше не казался Дуняше роскошным помещением, но ведь и убогим не казался! Сейчас же все это постсоветское «великолепие», сдобренное не только ароматом сырости и кошек, но и запахом человеческой мочи (дом стоял недалеко от гастронома), сильно действовало на нервы. Особенно в сравнении с благолепием кураевских интерьеров.
Да уж, не на пустом месте строит свои теории Никандрыч: любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. И не только кушать, но и красиво одеваться, в хороших местах отдыхать, на приличных машинах ездить. Эх, еще бы не с Маратом и его родителями…
Вот и знакомый звонок: обычная круглая кнопка на коричневом косяке.
Мама открыла дверь, и снова захотелось плакать — у нее было такое усталое лицо и такие испуганные родные глаза.
– Ты что, доченька? — Она обнимала Дуняшу двумя руками, а ее лицо было на уровне дочкиных плеч — девушка была еще и на каблуках. — Что случилось?
– Ничего не случилось, — всхлипывая, попыталась успокоить маму.
В итоге ревели обе, только теперь сидя на стареньком диване и по-прежнему обнявшись.
Дуняша успокоилась первой. Она ни на секунду не забывала, что ей еще возвращаться к проницательным родственникам.
Умылась, подкрасилась. Плакать больше не хотелось.
– Так что же случилось, доченька? — как-то безнадежно переспросила мама.
– Честное слово, ничего, — поспешила ответить Дуняша, физически ощущая давящую мамину тревогу.
– А почему же плачешь?
– По тебе соскучилась. А еще я мужа не люблю, — неожиданно вырвалось у нее.
– А он тебя любит, — тихо сказала мама.
– Он меня любит, — согласилась Дуняша.
Помолчали.
– Я своего как любила, — сказала мама. — А ты и лица его не видела. Я бы за Марата как за каменную стену держалась бы. От любой бури.
– Это точно, — не стала спорить дочка. — От любой бури. А если бурь нету? Так и просадить жизнь под ненужной стеной?
– Жизнь без бурь не бывает, — у мамы имелась своя нерушимая логика. — Это сейчас нет. А потом будет.
– Но я его совсем не люблю, — пожаловалась Дуняша.
– И не уважаешь?
Дочь задумалась:
– За что-то уважаю, за что-то — нет. А еще я его боюсь. И Станислава Маратовича тоже.
– Но ведь они тебя ни с того ни с сего не обидят.
– Ни с того ни с сего — нет, — согласилась Дуняша, — если выполнять их правила.
– Ну так выполняй, — попросила мама. — Не любишь его — привыкнешь. А ребенка точно полюбишь. Не сможешь не полюбить. Бог даст, будет двое, трое. Не до романтики будет. Как я с тобой мыкалась…
Разговор явно шел по кругу.
К тому же кончалось любезно отведенное свекровью время.
– Мамуль, ты на ноги жаловалась. Я тебе дам телефон, ты договоришься о приеме и подъедешь.
– Это куда ты ездишь? — снова испугалась мама.
– О деньгах не думай, — сразу сказала Дуняша.
– Я не могу о них не думать, — сказала мама. — Я когда первые твои анализы забирала, уже страшно было, сколько там чихнуть стоит. Сплошной мрамор и золото.
– Зато лечат хорошо, — закончила дочка. — Так что договаривайся — и вперед. А хочешь, я договорюсь, потом скажу, когда и в какой кабинет приехать. Там только опаздывать нельзя.
– Нет, дочка, — вздохнула мама. — Я лучше в нашу районную пойду. Там мне спокойнее.
– Ну что ж ты у меня такая? — рассердилась Дуняша, и в этот момент зазвонил телефон.
Она подскочила к старенькому аппарату, стоявшему на подоконнике, и сняла трубку.
– Алло!
– Господи, Дунька! — раздалось в трескучей мембране. — Господи, как здорово! Вот ведь повезло!
– Пиф, привет! Когда вернешься? Что нового?
– Много нового. — Голос у Пифа был радостный. — Скоро вернусь и выкраду тебя!
– Прямо так и выкрадешь? — Слушать Пифа было нестерпимо приятно. Нестерпимо — потому что точно разговор не будет длинным и потому что жизнь от этого разговора точно не изменится.
– Так и выкраду. Ты уж потерпи чуть-чуть.
– А потом куда денемся? Успеем добежать до канадской границы?
– Нам канадская без надобности. — Пиф, конечно, помнил рассказ О’Генри, но не готов был отвлечься от основной темы. — У меня другие идеи. Главное, чтобы ты решилась.
Они поговорили ни о чем еще минуту, и Дуняша первой положила трубку — время поджимало. Но вместо того, чтобы бежать вниз, к поджидавшему в «Гелендвагене» Никандрычу, устало опустилась на диван.
Мама стояла рядом и молча смотрела на дочь.
– О-хо-хо! — по-старушечьи вздохнула Дуняша.
Конечно, она была безумно рада звонку Пифа. На него и надеялась, когда сюда ехала. Но любит ли она его по-настоящему? Может, это просто из-за многолетней дружбы и нелюбви к Марату? Не зря же они, еще до второго появления Марата, так и не переступили черту? И где они будут с Пифом жить? Даже если благополучно исчезнут с бешеных глаз нынешнего мужа. В какой-нибудь такой же пятиэтажке? Только не в Москве, а где-нибудь за Уралом, подальше от барской семьи.
Нет, не хочется ей в холопки. Но хочется — с Пифом. Вот ведь дилемма…
– Я поехала, мамуль, — наконец сказала она.
– Давай, доченька.
У двери еще раз обнялись.
– Только не делай глупостей, ладно? — осторожно попросила мама.
– Постараюсь, — честно пообещала Дуняша.
Теперь оставалось лишь понять, что в ее положении будет большей глупостью — остаться с Маратом или, подвергая Пифа, единственного друга, серьезной опасности, пуститься в какую-то придуманную им авантюру…
5
На следующее утро проснулись рано.
Ни Александр Федорович, ни Ольга Николаевна, по трезвому рассуждению, не питали особых надежд на чудодейственного знахаря. Но поскольку более надеяться было вообще не на что, трезвые рассуждения как-то временно отменились, и визит к Николасу волновал до дрожи.
Пиф, как почти профессиональный медик, и вовсе на чудеса не рассчитывал, однако считал трудную поездку в далекую страну оправданной. Во-первых, если есть хоть одна сотая процента — в их ситуации уместно хвататься и за нее. Во-вторых, Ольге Николаевне было куда легче присутствовать при угасании мужа, зная, что она делает для него все возможное и невозможное.
В итоге в восемь утра они уже были около «клиники» знахаря.
Привезли их все на том же коптящем микроавтобусе. Солнце светило вовсю, расцвечивая богатую растительность, вымытую щедрым ночным дождем. Дышать было вкусно.
Сам хилер приехал чуть позже, на серебристом «Патроле» — причем в весьма богатой комплектации, даже с мониторами в спинках передних сидений. Видать, выданный ему в верхнем мире дар неплохо окупался в мире нижнем.
Клиника же была выдержана, в отличие от джипа, вполне в духе филиппинской деревни. Прилепилась она к боку поросшей деревьями горы и состояла из трех комнат: темной прихожей без окон, большой светлой «операционной» и крошечной, тоже с окошком, то ли кухоньки, то ли лаборатории. Кроме раковины и газовой плиты, работавшей от красного большого баллона, там стоял шкаф с химической посудой и какими-то реактивами и легкие бамбуковые стеллажи со стеклянными банками, заполненными неведомыми растительными и минеральными смесями.
В операционной же, залитой светом из трех больших окон, не было ничего, кроме большого массажного стола, хромированного столика с баночками и тюбиками, а также двух пластиковых кислотно-желтых стульев и такого же цвета дешевой пляжной кушетки. Да, еще на светло-салатовой, неровно покрашенной стене весело тикали часы-ходики, наподобие тех, что украшали комнаты наших бабушек.
– Давайте начнем, — предложил Николас, и, видя волнение пациента, бережно взял его за исхудавшую кисть. — Снимите рубашку и брюки, мы поможем вам лечь на стол.
Богданов как-то разом перестал волноваться и неожиданно сам, без посторонней помощи, сумел снять сандалии, брюки и рубаху. Теперь, когда он остался в одних трусах, был явственно виден урон, нанесенный ему злой болезнью. Залезть на стол он сам не смог, да ему и не дали: Августин и Пиф бережно подняли Александра Федоровича и аккуратно уложили на спину.
– Нам можно остаться? — спросила Ольга Николаевна.
– Конечно, — разрешил хилер. — Если хотите фотографировать — пожалуйста. Только не разговаривайте.
Пиф подумал, что было бы здорово заснять происходящее, но ему казалось неудобным в присутствии больного заниматься чем-либо необязательным.
Августин отошел от стола, а Николас, наоборот, к нему придвинулся.
Пока еще ничего не происходило, но было видно, что хилер напряжен. Лицо его покраснело, глаза закрылись. Обнаженные до плеч руки сначала неподвижно висели вдоль туловища, потом он их поднял, растопырил пальцы и начал водить ладонями над распростертым телом пациента, впрочем, не дотрагиваясь до него.
– Рентгеновские снимки нужны? — шепотом спросила Ольга Николаевна.
Хилер на вопрос никак не отреагировал, а Августин испуганно расширил глаза и приложил палец к губам — международный жест, призывающий к полному молчанию.

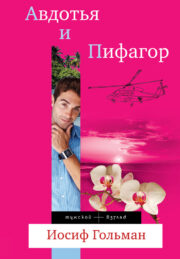
"Авдотья и Пифагор" отзывы
Отзывы читателей о книге "Авдотья и Пифагор". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Авдотья и Пифагор" друзьям в соцсетях.