Если бы Тольбот был вполне чистосердечен сам с собою, он, может быть, прибавил бы: «а то Джон Меллиш сделает ей предложение послезавтра».
Капитан Бёльстрод явился в дом на Восточном Утесе несколько ранее полудня на следующий день; но он нашел Меллиша у дверей, разговаривавшего с грумом мисс Флойд и осматривавшего лошадей, ожидавших молодых девиц, потому что девицы собирались ехать верхом, а Джон Меллиш собирался ехать с ними.
— Если вы присоединитесь к нам, Бёльстрод, добродушно сказал йоркширец, — вы можете ехать на том сером, о котором я говорил вам вчера. Соундерс сходит за ним и приведет его.
Тольбот отказался от этого предложения несколько угрюмо.
— Благодарю, — отвечал он, — у меня здесь мои собственные лошади. Но если вы позволите вашему груму съездить в конюшню и приказать моему конюху привести их сюда, я буду очень обязан вам.
После этой снисходительной просьбы, капитан Бёльстрод повернулся спиною к своему другу, перешел через дорогу и, положив руки на перила, стал смотреть на море. Но через пять минут явились девицы и Тольбот, обернувшись при звуке их голосов, хотел было опять перейти через дорогу, чтобы подержать в своей руке ножку Авроры, когда она вскочила на седло; но Джон Меллиш опять предупредил его, и лошадь мисс Флойд уже прыгала от прикосновения ее легкой руки, прежде чем успел вмешаться капитан. Тольбот предоставил груму помочь Люси и, сев на лошадь так проворно, как только позволяла ему его раненая нога, он приготовился занять свое место рядом с Авророй. Он опоздал опять: мисс Флойд скакала уже с горы в сопровождении Меллиша, и Тольботу было невозможно оставить бедную Люси, которая была робкая наездница.
Капитан никогда так мало не восхищался Люси, как на лошади. Его бледный идеал с венцом из золотистых волос, казался ему вовсе не на месте на дамском седле. Он вспоминал свой утренний визит в Фельден, как он тогда восхищался Люси, как она отвечала его идеалу, как он решался плениться ею скорее, чем Авророй.
«Если бы она влюбилась в меня, — думал он, — я повернулся бы спиною к черноволосой наследнице и женился бы на этом белокуром ангеле. Я намерен был сделать это, когда выйду в отставку. Не для Авроры оставил я службу, не для Авроры приехал я сюда. Для чего я приехал, желал бы я знать? Я полагаю, моя судьба заставляет меня плясать такой заколдованный танец, какого я никогда не думал уже танцовать в степенный тридцатитрехлетний возраст. Если бы Люси полюбила меня, тогда могло бы быть совсем другое».
Он так сердился на себя, что почти готов был рассердиться на бедную Люси за то, что она не освобождает его из сетей Авроры. Если бы он мог читать в этом невинном сердце, когда ехал в угрюмом молчании по широкой равнине! Если бы он мог узнать, какая боль терзала эту кроткую грудь, когда тихая девушка, ехавшая рядом с ним, время от времени поднимала свои голубые глаза, чтобы бросить взгляд на его суровый профиль и задумчивый лоб! Если бы он мог прочесть ее тайну, когда, разговаривая об Авроре, он в первый раз ясно обнаружил тайну своего сердца! Если бы он мог знать, как ландшафт потускнел перед глазами Люси и как коричневая степь завертелась под копытами ее лошади, как будто опускаясь все ниже и ниже в какую-то бездонную глубину горя и отчаяния! Но он не знал ничего и думал, что Люси Флойд хорошенькая, бездушная девушка, которая, без всякого сомнения будет очень рада надеть платье к лицу и провожать свою кузину к венцу.
В этот день на Восточном Утесе был обед, на который были приглашены Джон Меллиш и Тольбот; и капитан свирепо решился привести дело к развязке, прежде чем пройдет этот вечер.
Тольбот Рали Бёльстрод очень рассердился бы на вас, если бы вы пристально наблюдали за ним в этот вечер, когда он втыкал солитер, оправленный в золото, в свой узкий галстук перед зеркалом в гостинице Старого Корабля. Ему было стыдно самого себя за то, что он без причины рассердился на своего камердинера, которого он выгнал, прежде чем начал одеваться; и у него не хватало мужества опять позвать этого человека, когда его собственные горячие руки отказывались исполнять свой долг. Он пролил полсклянки духов на свои лакированные сапоги и выпачкал лицо какой-то душистой восковой мазью, купленной у Эжена Риммеля, обещавшего, что эта мазь будет lisser sans graisser его усы. Он разбил хрустальную коробочку в своем несессере и, из рассеянности, положил кусочки разбитого стекла в карман своего жилета. Он чуть было не удавился туго накрахмаленным воротничком, в который нарядиться предписывал ему долг, как джентльмену; и наконец вышел из своей комнаты с злобным сознанием, что каждый слуга в гостинице знал его тайну, знал каждое волнение в груди его, и что даже нью-фаундленская собака, лежавшая у дверей, знала все, подняла свою огромную голову взглянуть на капитана, а потом опустила ее опять с презрительным, ленивым зеванием.
Капитан Бёльстрод подал извозчику, который вез его на Восточный Утес, куски разбитого стекла, а потом заменил этот странный способ платежа серебряной монетой в пятнадцать шиллингов. Он думал, что в какой-нибудь части земного шара должно непременно происходить несколько землетрясений, или затмение, потому что эта планета находилась в каком-то состоянии смятения и расстройства для Тольбота Бёльстрода. Весь свет сосредоточился для него в Брайтоне, а Брайтон весь был облит лунным сиянием и ослепительно сиял газовым освещением. А на Авроре Флойд было белое шелковое платье и толстый, матовый золотой обруч на волосах; она более прежнего походила в этот вечер на Клеопатру и позволила Джону Меллишу вести ее к обеду.
Как Тольбот ненавидел широкое белое лицо йоркширца, и его голубые глаза и белые зубы, когда смотрел на обоих молодых людей сквозь фалангу хрусталя, серебра, цветов и восковых свеч!
«Пропал золотой случай!» — думал недовольный капитан, забыв, что едва ли мог бы он сделать предложение мисс Флойд за обедом, среди бренчанья рюмок и хлопанья пробок, и предложить роковой вопрос в то время, как огромный напудренный лакей подавал бы ему блюдо с соусом. Желаемая минута настала через несколько часов и Тольбот не имел уже предлога откладывать.
Ноябрьский вечер был тепел и три окна в гостиной были открыты от пола до потолка. Приятно было отвести глаза от жаркого газа и глядеть на широкий изгиб облитого лунным сиянием океана, на белые паруса, мелькавшие там и сям.
Капитан Бёльстрод сидел у открытого окна и смотрел на спокойную сцену, весьма мало ценя ее красоты. Он желал, чтобы все люди исчезли и оставили его наедине с Авророй. Было около одиннадцати часов и давно пора расходиться. Джон Меллиш, разумеется, непременно захочет проводить Тольбота; вот что должен был терпеть человек по милости школьного знакомства. Может быть, дня через два весь Рёгби обратился против него и будет оспаривать у него улыбку Авроры. Но Джон Меллиш вел весьма оживленный разговор с Арчибальдом Флойдом, с удивительным искусством успев втереться в милость к старику. Гости ушли, один по одному, а Аврора, с небрежным зеваньем, которого она не принимала труда скрывать, вышла на широкий железный балкон. Люси сидела у стола, на другом конце комнаты, и рассматривала книгу Красавиц.
О, моя бедная Люси! Хорошо ли ты рассмотрела высокий лоб и римский нос мисс Браунсмит? Не тускло ли казалось тебе прекрасное лицо этой девицы сквозь туман слез, которых ты не проливала только потому, что была слишком хорошо воспитана? Случай наконец настал. Тольбот Бёльстрод вышел за Авророй на балкон; Джон Меллиш продолжал свой рассказ об охотничьих собаках; а Люси, удерживая свое дыхание на другом конце комнаты, знала так же хорошо, как и сам капитан, то, что случится.
Жизнь не длинная ли комедия, Судьба — режиссер, а Страсть — Склонность, Любовь, Ненависть, Месть, Честолюбие и Скупость не бывают ли поочередно суфлерами? Иногда это комедия скучная, с пустыми разговорами на сцене, которые не ведут ни к чему, а только приводят зрителей в нетерпение; иногда это комедия с эффектами, с неожиданными картинами и неожиданной развязкой; но комедия до самого конца, потому что горести, которые кажутся нам трагическими, очень забавны, когда на них смотришь с другой стороны рампы. Что может быть забавнее чужих печалей? Почему мы забавляемся над фарсами на сцене и хохочем до слез? Потому что едва ли на британской сцене дается хоть один фарс, который от поднятия до опущения занавеса не воспроизводил бы человеческих горестей и незаслуженных бедствий. Да, незаслуженных и бесполезных мук — вот что составляет особенное очарование представления.
Тольбот Бёльстрод вышел на балкон и земля не колебалась минут десять, и каждая звезда на синем небе заботливо сверкала на молодого человека в этом великом кризисе его жизни.
Аврора облокотилась о тонкую железную решетку и смотрела на город, а через город на море. Она завернулась в манто, не вышитое, изящное дамское манто, а в какую-то широкую драпировку из мягкой пунцовой шерстяной материи, какую могла бы надеть сама Семирамида.
«Она похожа на Семирамиду», — думал Тольбот. «Как этот шотландский банкир и его лэнкэширская жена могла иметь дочерью ассириянку?»
Этот молодой человек начал блистательно, как вообще все влюбленные:
— Я боюсь, что вы устали сегодня, мисс Флойд, — заметил он.
Аврора подавила зевоту, отвечая ему.
— Я немножко устала, — сказала она.
Это было не весьма ободрительно. Как должен был он начать красноречивую речь, когда Аврора могла заснуть в середине? Но он начал; он тотчас приступил к предмету и сказал Авроре, как он любил ее, как боролся с этой страстью и не мог пересилить ее; как он любил ее, как никогда не думал любить ни одно существо на свете, и как он смиренно просил ее произнести ее драгоценными губами приговор жизни и смерти.
Аврора молчала несколько минут; ее профиль резко виднелся ему при лунном сиянии, а драгоценные губы, очевидно, дрожали. Потом, несколько отвернувшись, в словах медленно и мучительно выходивших из ее, как бы сжатого горла, она дала ему свой ответ.
Этот ответ был отказ!
Не то «нет», которое у молодых девиц будет значить завтра «да», или которое означает, может быть, что вы не упали на колена в отчаянной страсти; но спокойный отказ, старательно и изящно выраженный, как будто она боялась оставить Тольботу малейшую надежду.
Он получил отказ. С минуту он не мог поверить этому. Он был готов вообразить, что значение некоторых слов вдруг изменилось, или что он привык не понимать их всю его жизнь, скорее чем сознаться, что эти слова выражали ему жестокие факты, то есть, что он, Тольбот Рали Бёльстрод из Бёльстродского замка и саксонского происхождения, получил отказ от дочери банкира из Ломбардской улицы.
Он помолчал — как ему казалось, часа полтора — для того, чтобы собраться с мыслями, прежде чем заговорил опять.
— Могу я… осмелиться спросить, — сказал он, — как ужасно пошлою казалась эта фраза! Он не мог сказать ничего хуже, если бы осведомлялся о меблированной квартире, — могу я спросить, не привязанность ли… к кому-нибудь более достойному…
— О, нет, нет, нет!
Этот ответ прервал его так внезапно, что он почти столько же испугал его, как и ее отказ.
— Однако ваше решение неизменно?
— Неизменно.
— Простите мою навязчивость: но… но, мистер Флойд, может быть, имеет какие-нибудь более высокие виды…
Его прервало заглушаемое рыдание и Аврора закрыла руками свое отвернувшееся лицо.
— Более высокие виды! — сказала она, — бедный старик! нет, нет!
— Вам не должно казаться странно, что я надоедаю вам этими вопросами. Так тяжело думать, что, встретив вас свободною от всякой привязанности, я не могу заслужить ни малейшей тени уважения, из которой я мог бы извлечь надежду для будущего.
Бедный Тольбот! Он говорил о надеждах, основанных на тени с безумной глупостью влюбленного.
— Тяжело отказаться от надежды, что когда-нибудь вы перемените ваше сегодняшнее решение, Аврора — он остановился с минуту на ее имени; во-первых, потому, что так сладко было произнести его, а во-вторых, в надежде, что Аврора заговорит — так тяжело помнить, что здание счастья, которое я осмелился воздвигнуть, рушилось сегодня навсегда.
Тольбот совсем забыл, что до приезда Джона Меллиша, он постоянно боролся с своею страстью и объявлял беспрестанно самому себе, что он был бы безумцем, если бы решился жениться на Авроре. Он олицетворял наоборот басню о лисице, потому что пренебрегал виноградом, когда воображал, что он был у него под рукой; а теперь, когда он не мог достать этого винограда, он думал, что такие восхитительные плоды никогда еще не прельщали человека.
— Если… если бы, — сказал он, — моя участь была счастливее, я знаю, как гордился бы мой отец, бедный старик сэр Джон, выбором своего старшего сына.
Как он стыдился низости этой речи! Эта искусная фраза была сочинена для того, чтобы напомнить Авроре, кому она отказывала. Он старался подкупить ее баронетством, которое принадлежало бы ему со временем. Но Аврора не отвечала на это жалобное воззвание. Тольбота душила досада.

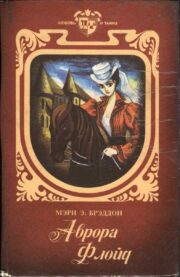
"Аврора Флойд" отзывы
Отзывы читателей о книге "Аврора Флойд". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Аврора Флойд" друзьям в соцсетях.