— Я вижу… вижу, — сказал он — что надежды нет никакой. Спокойной ночи, мисс Флойд.
Она даже не обернулась взглянуть на него, когда он сошел с балкона; но, плотно завернувшись в свою красную драпировку, стояла, дрожа, в лунном сиянии, между тем, как слезы медленно катились по ее щекам.
— Более высокие виды! — вскричала она с горечью, повторяя фразу Тольбота: — более высокие виды! Да поможет ему Господь.
— Я должен вам пожелать спокойной ночи и вместе с тем проститься с вами, — сказал капитан Бёльстрод, пожимая руку Люси.
— Проститься?
— Да; я уезжаю из Брайтона рано утром.
— Так вдруг?
— Не совсем. Я всегда намеревался путешествовать этою зимою. Не могу ли я сделать чего-нибудь для вас — в Каире?
Он был так бледен и казался так несчастен, что Люси стало почти жаль его — жаль, несмотря на дикую радость, заставившую забиться ее сердце. Аврора отказала ему — это было совершенно ясно — отказала ему! Нежные голубые глаза наполнились слезами при мысли, что полубог должен был вытерпеть такое унижение. Тольбот тихо пожал ее руку. Он мог прочитать сострадание в ее нежном взгляде, но у него не было лексикона, по которому он мог бы перевести глубокое значение этого взгляда.
— Передайте вашему дядюшке, что я прощаюсь с ним, Люси, — сказал он.
Он назвал ее Люси в первый раз; но что была за нужда теперь? Его великое огорчение отделяло его от его ближних и давало ему печальные преимущества.
— Спокойной ночи, Люси; спокойной ночи и прощайте. Я… я надеюсь увидеться с вами опять — года через два.
Сапоги Тольбота Бёльстрода как будто не касались мостовой, когда он шел по Восточному Утесу в гостиницу Старого Корабля, потому что нам свойственно в минуты высокой радости или огорчения терять всякое сознание о земле, по которой мы ступаем, и парить в атмосфере высокого эгоизма.
Но капитан не уехал из Брайтона на другой день. Он остался в этом модном приморском городке, но решительно не хотел подходить к Восточному Утесу, а так как день был дождливый, то он сделал приятную прогулку в Шоргэм по дождю.
Возвращаясь в туман около четырех часов, капитан встретился с Джоном Меллишем возле заставы. Оба вытаращили глаза друг на друга.
— Куда это вы идете? — спросил Тольбот.
— Я возвращаюсь в Йоркшир с первым поездом, отправляющимся из Брайтона.
— Но это не дорога на станцию.
— Нет, но в чемодан мой закладывают лошадей, а рубашки отправляются в Лидс, в лошадином вагоне…
Тольбот Бёльстрод громко расхохотался, что значительно облегчило переполненную грудь этого джентльмена.
— Джон Меллиш, — сказал он, — вы делали предложение Авроре Флойд?
Йоркширец вспыхнул.
— Это… это… неблагородно с ее стороны рассказать вам, — пролепетал он.
— Мисс Флойд не говорила мне ни слова об этом. Я только сейчас из Шоргэма, а вы с Восточного Утеса. Вы сделали предложение и вам отказали.
— Сделал, — заревел Джон, — и чертовски неприятно получить отказ, когда обещал ей, что она будет иметь целый завод беговых лошадей и держать столько пари на дербийских скачках, сколько ей захочется; что она будет распоряжаться сама жокеями, а я и вмешиваться не буду, и… и… Меллишский парк одно из прекраснейших поместьев в графстве.
— Прав старый француз, — пробормотал капитан Бёльстрод, — есть большое утешение в несчастии другого. Если я пойду к дантисту, мне приятно найти у него другого страдальца; мне приятно, чтобы у меня зуб был выдернут прежде чем у него; приятно видеть, с какою завистью смотрит он на меня, когда я выхожу из комнаты пытки и знать, что мое мучение кончилось, а его еще наступает. Прощайте, Джон Меллиш, Бог да благословит вас. А вы, ведь, не совсем дурной человек.
Тольботу было почти весело, когда он возвращался в гостиницу. Он съел баранью котлетку, выпил мозельского вина; пища и вино согрели его; а так как он не смыкал глаз прошлую ночь, то он впал в тяжелый нездоровый сон; голова его свесилась с подушки дивана, и ему привидилось во сне, что он был в Каире, и Аврора Флойд с ним, в царственной пурпурной одежде, с иероглифами и в куртке из белого атласа с пунцовыми крапинками, какую он видел на жокее на скачках.
Капитан Бёльстрод встал рано утром, с намерением уехать из Суссека с экстренным поездом без четверти девять, но вдруг вспомнил, что он дурно заплатил за дружелюбие Арчибальда Флойда и решился принести в жертву свои наклонности на алтарь вежливости и еще раз отправиться на Восточный Утес проститься с банкиром.
Решившись на это, капитан охотно ускорил бы минуту своего визита, но, узнав, что только половина восьмого, он был принужден воздержать свое нетерпение и ждать более приличного часа. Может ли он явиться в девять? Едва ли. В десять? Да, непременно, потому что в таком случае он может уехать с одиннадцатичасовым поездом. Он не дотронулся до завтрака и все сидел и смотрел на свои часы, с нетерпением желая, чтобы прошло время, а между тем его бросало в жар и тревогу по мере приближения часа.
Четверть одиннадцатого; он надел шляпу и вышел из гостиницы. Слуга сказал ему, что мистер Флойд дома — наверху в маленьком кабинете. Тольбот не ждал более.
— Не надо докладывать обо мне, — сказал он, — я знаю, где найти вашего господина.
Кабинет был в одном этаже с гостиной и у двери этой гостиной Тольбот остановился на минуту. Дверь была открыта, комната пуста; нет, не пуста: Аврора Флойд была там; она сидела спиною к Тольботу, голова ее лежала на подушке кресла. Он остановился на минуту полюбоваться этой маленькой головкой с короной из блестящих черных волос, потом сделал два шага по направлению к кабинету банкира; потом опять остановился, повернулся назад, вошел в гостиную и запер за собою дверь.
Аврора не пошевелилась, когда Тольбот приблизился к ней, не отвечала, когда он произнес ее имя. Лицо ее было бледно, как лицо мертвой женщины, а руки безжизненно свесились с подушек кресла. У ног ее лежала газета. Аврора была в обмороке, она лежала одна, и некому было привести ее в чувство.
Тольбот выкинул цветы из вазы, стоявшей на столе, и примочил водою лоб Авроры, потом подкатил ее кресло к открытому окну и повернул ее лицом к ветру. Минуты через три с Авророй сделалась сильная дрожь, скоро открыла она глаза и взглянула на Тольбота, приложив руки к голове, как бы стараясь вспомнить что-нибудь.
— Тольбот! — сказала она. — Тольбот!
Она назвала его по имени, а тридцать пять часов тому назад холодно запретила ему надеяться.
— Аврора! — вскричал он. — Аврора, я думал, что иду сюда проститься с вашим отцом, но я обманывал себя. Я пришел еще раз просить вашей руки и спросить раз и навсегда: неужели ваше вчерашнее решение неизменно?
— Богу известно, что я сама так думала тогда.
— Но оно не было неизменно?
— Вы желаете, чтобы я переменила его?
— Желаю ли я? желаю ли…
— Если вы действительно желаете, я переменю его, потому что вы добрый и благородный человек, капитан Бёльстрод, и я очень вас люблю.
Богу известно, в какие восторженные речи пустился бы Тольбот, но Аврора протянула руку, как бы говоря: «удержитесь на сегодня, если вы любите меня» и выбежала из комнаты. Он принял чашу спиртуозного напитка, которую поднесла ему сирена, осушил ее до дна, выпил даже поддонки и опьянел. Он опустился на кресло, на котором сидела Аврора и в рассеянности от своего радостного опьянения, поднял газету, лежавшую у его ног. Он невольно вздрогнул, взглянув на заглавие журнала: это был спортсменский журнал, грязный, скомканный, запачканный пивом, с сильным запахом дешевого табака. На нем был написан адрес мисс Флойд в Фельден с самыми грубыми орфографическими ошибками, а потом переслан Авроре фельденской ключницей.
Тольбот быстро пробежал глазами первую страницу, она почти вся была наполнена объявлениями, но в одном столбце был рассказ под заглавием: «Ужасное несчастье в Германии; английский жокей убит».
Капитан Бёльстрод сам не знал, зачем прочел этот рассказ. Он вовсе не был интересен для него. Это был рассказ об одной скачке в Пруссии, в которой тяжелый английский всадник и горячая французская лошадь были убиты. Очень сожалели о потере этой лошади и нисколько не сожалели о человеке, ехавшем на ней, который, по словам рассказчика, весьма мало был известен в спортивных кружках, но в параграфе внизу было прибавлено это сведение, очевидно, полученное в последнюю минуту: «Жокея звали Коньерс».
Глава VII
СТРАННЫЙ ПЕНСИОНЕР АВРОРЫ
Арчибальд Флойд принял известие о выборе своей дочери с очевидной гордостью и удовольствием. Точно, будто какая-то тяжелая ноша была снята с него, как будто какая-то жестокая тень снята с жизни отца и дочери.
Банкир отвез в Фельден свое семейство, к которому присоединился и Тольбот Бёльстрод. Хорошенькие веселые комнатки, выходившие окнами на чистый двор, за которым виднелись дубы и буки — были приготовлены для отставного гусара, который должен был провести Рождество в Фельдене. Мистрисс Александр с мужем и семейством поселились в западном флигеле, мистер и мистрисс Эндрю поместились в восточном флигеле, потому что гостеприимный банкир имел обыкновение созывать своих родных в начале декабря и удерживать их в своем доме до тех пор, пока колокола живописной Бекингэмской церкви не возвестили наступление нового года.
Щеки Люси Флойд лишились своего нежного румянца, когда она воротилась в Фельден, и все, приметившие эту перемену, объявили, что воздух на Восточном Утесе и осенние ветры были не по силам слабой молодой девушке.
Аврора как будто расцвела новой и более великолепной красотой после того утра, когда она приняла руку Тольбота Бёльстрода. В ее обращении была какая-то гордая самоуверенность, которая шла ей лучше, чем идет кротость к более миловидным женщинам. В этой молодой девице была какая-то надменная беззаботность, придававшая новый блеск ее большим черным глазам и новую музыкальность ее радостному смеху. Она походила на прекрасный, шумный водопад, вечно брызжущий, сверкающий, стремящийся и непременно заставляющий вас насильно любоваться им. Тольбот Бёльстрод, предавшись очарованию сирены, уже не боролся более, но совсем поддался очарованию ее глаз и запутался в сеть ее черных волос с синеватым отливом. Чем туже натянута тетива, тем сильнее будет полет стрелы; а Тольбот Бёльстрод так же был слаб, когда поддался, наконец, как был силен, когда сопротивлялся.
Я должна писать его историю в самых обыкновенных словах. Он не мог пересилить себя! Он любил Аврору не потому, что он находил ее лучше, или умнее, или прелестнее многих других женщин — он даже очень сомневался относительно каждого из этих пунктов, потому что это была его судьба, он любил Аврору.
Он написал к матери и сказал ей, что выбрал жену, которая будет сидеть в бёльстродских залах и имя которой будет вплетено в летописи дома; сверх того, он сказал ей, что мисс Флойд была дочь банкира, что она прелестна и очаровательна, с большими черными глазами и с пятьюдесятью тысячами приданого. Леди Бёльстрод отвечала сыну огромным письмом, наполненным материнскими просьбами и советами, тревожными надеждами относительно того, что он сделал благоразумный выбор; расспросами о мнениях и религиозных правилах молодой девицы — на все это Тольбот не знал бы как ответить. В этом письме было вложено письмо к Авроре, женственное и нежное послание, в котором гордость умерялась с любовью и которое вызвало крупные слезы на глаза мисс Флойд, так что твердый почерк леди Бёльстрод насилу могла разглядеть читательница.
Куда же девался бедный Джон Меллиш? Он воротился в свое поместье и увез с собою своих собак, лошадей, конюхов, фаэтон; но горесть, к несчастью, постигнувшая его после сезона скачек, была слишком для него сильна, и он бежал из обширного старого замка с его приятным парком и лесом, потому что Аврора Флойд не могла принадлежать ему, и все казалось ему плоско, старо и неприятно. Он поехал в Париж и поселился в самой большой квартире в гостинице Мориса, и ходил взад и вперед между этой гостиницей и Галиньяни по десяти раз в день за английскими газетами. Уныло обедал он у Вефура, Филиппа, Трех Братьев и в Парижской Кофейной. Его громкий голос слышался в каждом дорогом парижском ресторане, заказывавший: «все, что ни есть лучшее»; но опять отсылал самые вкусные блюда, не дотронувшись до них, и сидел с четверть часа, считая зубочистки в тонких синих вазах и думая об Авроре.
Уныло ездил он верхом по Булонскому лесу, сидел в кофейнях, слушал пение, всегда казавшееся ему одним и тем же мотивом. Он посещал цирки и чуть было не влюбился в прекрасную наездницу, черные глаза которой напоминали ему Аврору, пока не купил самую сильную зрительную трубку, какую только мог найти в улице Риволи, и не увидел, что лицо этой госпожи было покрыто на целый дюйм белилами, а что главную прелесть ее глаз составляли круги, нарисованные китайской тушью. Он готов был швырнуть на землю эту двойную трубку, обнаружившую истину, и стереть в порошок стекла своими каблуками в порыве отчаяния, но все-таки это было лучше, чем попасться в обман и продолжать думать, что эта женщина походила на Аврору, и ходить в цирк каждый вечер до тех пор, пока волосы его не поседеют, но не от лет, и до тех пор, пока он исчахнет с тоски и умрет.

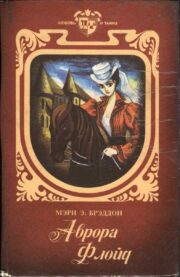
"Аврора Флойд" отзывы
Отзывы читателей о книге "Аврора Флойд". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Аврора Флойд" друзьям в соцсетях.