У ворот Большого дома Кузьма увидел Настю, держащую за руку племянницу. Перед ними стоял разносчик с ландрином, и шестилетняя Малашка набирала в ладошки красные леденцы.
– Куда бежишь, чаворо? – улыбнувшись, спросила Настя. – На Тишинку?
– Да нет, – с сожалением сказал Кузьма. – На Татарскую, к мадам Полине. Варька за платьем послала.
– Ох, и мне туда нужно! – Настя задумалась. – Ничего, если я с тобой пойду?
– А пустят тебя?
– Отчего не пустят? Мы Малашку с собой возьмем!
– Ну, пошли. – Кузьма подхватил девчонку под мышки и посадил к себе на плечи.
Малашка весело запищала, вцепившись липкими от ландрина ручонками в его волосы.
Настя тем временем кричала высунувшейся в окно Марье Васильевне:
– Тетя Маша, я с Кузьмой к мадам Полине пойду. И Малашка с нами.
– Ступайте с богом! – разрешила Марья Васильевна. – Только смотрите, не ешьте на улице ничего – голоса посадите!
Настя согласно закивала. Но, едва оказавшись на углу Садовой, остановила бабу-ярославку с лотком и купила три фигурных пряника. Малашке она дала козла с витыми рогами, себе взяла сахарную собаку, третий пряник протянула Кузьме.
– Да мне-то уж куда… Не дите, поди, – отказался тот.
Но Настя со смехом сунула ему в руку душистого, залитого глазурью зайца.
– Вот женишься – не будешь дите. А пока пряники ешь.
Пряника хотелось больше, чем жениться, и Кузьма взял зайца. Втроем они пошли вниз по Садовой. И почти сразу же наткнулись на Илью. Тот медленно шел по тротуару, опустив голову. Его кожух был небрежно распахнут на груди, ветер теребил взлохмаченные волосы.
– Илюха! – окликнул Кузьма.
Илья поднял глаза. Кузьма увидел усталую и сердитую физиономию.
– Чего орешь, дурак? – с досадой спросил Илья. Взглянув на Настю, нахмурился еще больше. Сквозь зубы буркнул: – Здравствуй.
Та холодно кивнула, глядя в сторону. И не подняла ресниц до тех пор, пока Илья не скрылся за поворотом на Живодерку. Кузьма растерянно смотрел на Настю.
– Что это вы?
– Ничего… Ничего, чаворо.
«Ничего»… Слепой он будто? Ежу дремучему понятно, что дело тут нечисто. Раньше все было ладом – и пели вместе, и болтали, и в горелки играли, а сейчас… Даже здороваться друг с другом перестали, глядят волками. А с чего – не спросишь. И никто ничего не знает, даже Митро. Даже Стешка, уж на что во все кадушки нос сунет… Ей-богу, все с ума посходили.
Но долго думать о плохом Кузьма не мог. Тем более что столько интересного было вокруг. Вот на углу стоит Яков Васильич, а рядом с ним – мадам Даная в новом красном платье и с кульком изюма в руках. Мадам Даная что-то взахлеб рассказывает, смеется, доставая из пакета сизый изюм и ловко бросая его в рот. Яков Васильевич тоже улыбается в усы, что-то негромко говорит, нагнувшись к кружевной шляпке с искусственной розой, и смех мадам Данаи становится еще звонче.
Вот посреди Садовой сцепились осями двое извозчиков, и отчаянная перебранка несется по улице, а сами извозчики – всклокоченные, распаренные, со злыми красными лицами и взъерошенными бородами – машут кнутами перед носом друг у друга. Из-за угла появляется «правительство» – заспанный, важный городовой. Извозчики умолкают на полуслове, в считаные мгновения заключают мир, молниеносно расцепляют пролетки и раскатываются в разные стороны под неумолчный хохот толпы.
На углу Садовой и Тверской офеня торгует лубочными картинками, и Настя с трудом оттаскивает Малашку от пестрых аляповатых изображений генерала Скобелева, красной «тигры» с хвостом трубой и «как мыши кота хоронили». Рыжий офеня с унылым испитым лицом надсадно кричит:
– А вот кому енарала, коего царевна персицка целавала! А вот царь Горох-воевода ворочается с турецкого похода! Борода веником, с полыньем и репейником! Идет – земля дрожит, упадет – три дня лежит!
– Пожарные! Пожарные! – вдруг проносится по толпе.
С Тверской слышится бешеный трезвон, визг трубы, и народ дружно отшатывается к стенам домов. Извозчики, бранясь, заворачивают лошадей на тротуары, за ними бегут торговцы с лотками. Улица едва успевает очиститься, а по мостовой уже мчится во весь опор вестовой на храпящей, роняющей клочья пены пегой лошади. В его руке – чадящий факел, за ним – громыхающие дроги с мокрой бочкой, обвешанные со всех сторон усатыми молодцами в сверкающих касках.
– Арбатские поехали, – с завистью говорит офеня.
– Куды, малой! – степенно возражает старичок-извозчик с сияющей на солнце лысиной. – Арбатские на гнедых, а эти на пегих. Тверски-ие… Эй, дьяволы! Где горит? У нас?
– В Настасьинском! – гремит с бочки, и все сияющее медью, звенящее и трубящее чудо стремительно заворачивает в переулок.
Народ уважительно смотрит вслед. Малашка, забыв про лубки, зачарованно провожает пожарных круглыми ореховыми глазами. А Настя уже указывает ей на торговца «морскими жителями» – стеклянными, в полмизинца, чертиками, забавно кувыркающимися в пробирках с водой. Кузьма немедленно начинает торговаться:
– Скольки за жителя? Двадцать копеек?! Ну, знаешь, дед, – совести в тебе нету! Да я за двадцать тебе живого черта приведу! С хвостом и с рогами! Где возьму? Тебе зеркало покажу, вот где! Гривенник хочешь? Ничего не сошел с ума! Ничего не даром! Ну, леший с тобой – двенадцать копеек. Я у Рогожской таких же по пятаку видал! Ну, последнее слово – пятиалтынник. Все равно без почина стоишь!
Дед оказывается сообразительным. Всего через четверть часа воплей и брани смешной чертик перекочевывает в руки Малашки. Кузьма, подумав, покупает еще одного и прячет в карман со специальной целью – вечером до смерти напугать Макарьевну.
Малашка счастлива. Она вертит захватанную, небрежно завязанную сверху резинкой пробирку в пальчиках, тихо смеется, рассматривая кувыркающегося чертика, и что-то ласково лопочет ему. Настя смотрит на нее и, к радости Кузьмы, наконец-то улыбается.
Лед на Москве-реке в этом году тронулся рано – до Пасхи. Весь город бегал смотреть, как вздувается и пухнет река и вода подходит к самым ступеням набережной. Все выше и выше, до третьего камня, до второго, до первого… – и, наконец, освобожденная Москва-река хлынула на мостовую. Отводный канал, называемый «Канавой», традиционно вышел из берегов и затопил Зацепу, Каменный мост и все близлежащие улочки.
В Кадашевском переулке под ногами захлюпала вода, и Настя решительно остановилась:
– Нет, не пойду дальше. Тут сапоги охотничьи нужно!
Кузьма пожал плечами, вглядываясь в залитый водой переулок.
– Ну, коли хочешь, подожди здесь, я один сбегаю.
– Куда «сбегаешь»? – рассердилась Настя. – Тут вплавь надо. Выстудиться захотел на Пасху? Нет, тут нужно что-то…
Она не договорила. Из-за угла послышался смех, веселые крики, и в переулок торжественно выплыл плот – снятые со столбов ворота, на которых стояло человек пять, деловито отталкивающихся шестами. Кузьма, увидев знакомого приказчика, замахал картузом:
– Яким! Яким! Эй!
– Сей минут! – раздалось с плота. Ворота медленно, качаясь, начали разворачиваться и, подталкиваемые шестами, тронулись к Кузьме.
– Видал, что делается? – сверкая зубами, спросил Яким – скуластый веснушчатый малый в распахнутой на груди рубахе и мокрых по колено портках, заправленных в хромовые сапоги. При каждом движении Якима из сапог выплескивалась вода. – Ночью залило по самые по окошечки! – возбужденно заговорил он. – Хозяин Пров Савельич в одном исподнем в лавку побежал товар спасать, нас перебудил, в ружжо поднял! Чудак-человек, право слово… Кажну весну заливает, а ему все как откровение небесное. Вона – ни проехать, ни пройтиться, вся Татарка на воротах маневрирует. В лавку за хлебом – и то хозяйский малец в лоханке поплыл. О чем в управе думают, непонятственно. Убытку-то, хосподи! Народ прямо плачет – ходу нету никакого! Наши черти уж приладились по копейке за переправу брать. Сущий водяной извоз начался! У Калачневых будка уплыла да с собакой, насилу выловили уже на Ордынке. Корыто опять же чье-то подцепили, всю улицу обплавали – никто не признает…
– На Татарской цыганочка на тумбе застряла! – вспомнил кто-то.
– Цыганочка? – встрепенулся Кузьма. – Откуда? Из Рогожской?
– Не, не московская, кажись. Заплутала в переулках-то, а вода все выше и выше. Влезла на тумбу, юбки подобрала и сидит богородицей. Поет на всю улицу, да хорошо так! Наши ей уж и пятаков накидали!
– Я хочу послушать! – загорелась Настя.
Приказчики умолкли. Яким озабоченно покрутил головой:
– Да затруднительно вам будет на воротах-то… Ножки смочите.
– Ан не смочит! – вдруг прогудело из-за спины Якима, и высокий парень с широченными плечами, на которых, казалось, вот-вот треснет вылинявшая синяя чуйка, шагнул вперед. Сдвинув на затылок картуз, он осторожно перешел к краю качающегося плота, уверенно скомандовал: – А ну, черти, двое слазьте, не то потонем! После вернемся за вами…
– О Сенька! Давай, Сенька! – весело загалдели приказчики.
Двое тут же соскочили на мокрую мостовую. Сенька тоже сошел. Шлепая сапогами по воде, подошел к Насте, смущенным басом попросил:
– Не побрезгуйте ко мне на ручки…
– Сделай милость… – Настя подобрала юбку.
Сенька, крякнув, бережно взял ее на руки и зашагал к плоту.
– Ну-ка – все на правый борт. Забираюся с барышней!
Плот накренился, зашатался. Настя ахнула, обхватив Сеньку за плечи. Но тот широко расставил ноги, подождал, пока перестанут ходить под ним ходуном снятые ворота, и, улыбаясь во весь рот, опустил Настю на плот.
– Любо ли?
– Спасибо, миленький, – ласково сказала Настя, оправляя платье. Ее скулы зарумянились.
Кузьма передал ей Малашку и вскочил на плот сам.
– Ну – с богом, золотая рота! – под общий смех сказал Яким и оттолкнулся шестом. Плот дрогнул и пошел по воде посреди переулка.
На Татарской вода стояла у самых подоконников. Крыши были усеяны ребятней. Из окон то и дело выглядывали озабоченные лица кухарок и горничных. В доме купца Никишина женский голос пронзительно распоряжался:
– Эй, Аринка, Дуняша, Мавра! Ковры сымайте, приданое наверх волоките, шалавы! Кровать уж плавает! Февронья Парменовна в расстройстве вся!
Из окна высовывалось зареванное лицо купеческой дочки. Снизу горничные, балансируя на снятой дубовой двери, подавали ей раскисшие подушки. По улице двигались доски, лоханки, ворота с купеческими чадами, приказчиками, прислугой, торговцами и мальчишками. Невозмутимо греб на перевернутой тележке старьевщик, скрипуче выкрикивая: «Стару вещию беро-о-ом!» Кто-то плыл в лавку за провизией, кто-то спасал промокшую рухлядь, кто-то просто забавлялся. Все с веселым изумлением смотрели на плот, где приказчики-молодцы окружили хрупкую фигурку в длинном платье и кокетливой шляпке с бантом.
– Теперь уже скоро, – сказал Яким, сворачивая у скособочившейся вывески «Аптека Семахина, кровь пущать и пиявок ставим» в переулок.
Переулок был маленьким, кривым, сплошь застроенным одноэтажными деревянными домиками. Решением невесть какого начальства вдоль домов, затрудняя проезд, были поставлены каменные тумбы, называемые москвичами «бабы». Пользы от «баб» не было никакой – разве что торговцы, отдыхая, ставили на них лотки с товаром да в осенние безлунные ночи на тумбы водружались чадящие плошки с фитильками. На одну из этих тумб Яким махнул рукой. Кузьма вытянул шею и увидел цыганку.
Она сидела на «бабе», поджав по-таборному ноги. Темный вдовий платок сполз на затылок, из-под подола рваной юбки виднелись неожиданно щегольские новые туфли с мокрыми насквозь носками. Поверх потрепанной, с отставшим рукавом бабьей кацавейки красовалась яркая и тоже новая шаль с кистями. Цыганка весело помахала рукой приказчикам, хлопнула в ладоши и запела:
Валенки, валенки – не подшиты, стареньки!
Нечем валенки подшить, не в чем к милому сходить!
– Ого… – тихо и восхищенно сказала Настя. – Кузьма, ты слышишь?
Кузьма не ответил. В горле встал комок. Еще никогда, ни в одном цыганском доме, ни в одном хоре, ни в одном таборе он не видел такой красоты.
Ей было не больше пятнадцати. Правую руку – грязную, в цыпках, – украшало колечко с красным камнем. Из-под сползшего платка выбивались густые иссиня-черные волосы. На обветренном лице выделялись скулы и острый подбородок. Черные глаза были чуть скошены к вискам, блестели холодным белком, смотрели неласково. Над ними изящно изламывались тонкие брови. Длинные и густые ресницы слегка смягчали мрачный, недевичий взгляд. Эту ведьмину красоту немного портили две горькие морщинки у самых губ. Они становились особенно заметными, когда цыганка улыбалась.
Закончив песню, певица протянула чумазую ладонь, низко, гортанно заговорила:
– Дорогие! Бесценные! Соколы бралиянтовые! С самого утра глотку на холоде деру, киньте хоть копеечку, желанные! А вот погадать кому? Кому судьбу открыть, кому сказать, чем сердце утешится? Эй, курчавый, давай тебе погадаю! О, да какой ты красивый! Хочешь, замуж за тебя пойду?

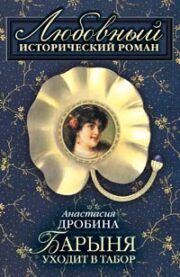
"Барыня уходит в табор" отзывы
Отзывы читателей о книге "Барыня уходит в табор". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Барыня уходит в табор" друзьям в соцсетях.