Мерри все чаще и чаще вспоминала слова Гринделла, пытаясь по малейшим намекам догадаться о природе заболевания Карреры. Сам же Рауль на эту тему не распространялся. Однажды Мерри даже собралась позвонить в Рим Гринделлу, но в последнюю минуту передумала. В конце концов, она уже сделала свой выбор, поставив на Карреру, так что звонить теперь Гринделлу было бы бестактно и нечестно. К тому же слова Фредди о том, что Каррера человек странный и нездоровый — пусть она и не знала, в чем дело, — в какой-то степени успокаивали Мерри. По крайней мере, она не может винить себя в том, что недостаточно привлекательна внешне и сексуально.
Мерри уже даже склонялась к мысли о том, не попытаться ли ей самой соблазнить Карреру — ведь если гора не хочет или не может прийти к Магомету, почему бы Магомету самому не прийти к горе? Ей даже начало казаться, что Каррера именно этого от нее и ждет. Как еще можно объяснить его странное поведение, его поразительную сдержанность по отношению к ней, а с другой стороны — столь же полную, до бесстыдства, распущенность. Все его фильмы были насыщены эротикой и откровенно сексуальными сценами. В его квартире было не счесть эротических книг, гравюр, рисунков и картин, которые Каррера даже не пытался прятать, а если бы и пытался, то не смог бы, настолько много их было. Причем он был не любителем, а серьезным и вдумчивым коллекционером порнографии и эротики. Буквально на каждом шагу Мерри натыкалась на какие-то сексуальные символы — предметы фаллического культа, гравюры Бердсли, рисунки, изображающие фрагменты знаменитых барельефов индийских храмов с самыми невероятными сексуальными позами…
Но сколько бы ни разглядывала Мерри экспонаты коллекции Карреры, ей так и не удавалась разгадать его тайну. Невероятное многообразие коллекции не позволяло вычленить какую-то определенную сторону его увлечения. Единственное, что объединяло все экспонаты — была их художественная ценность. Да, Каррера был настоящим знатоком и подлинным ценителем эротического искусства…
Мерри ломала над этим голову несколько дней. И ночей. Наконец, она приняла самое простое решение. Но всяком случае, ошибиться в ее намерениях было невозможно.
С самого начала они спали и до сих пор продолжали спать в разных комнатах. И вот как-то раз, когда они с Раулем вернулись домой с вечеринки, которую устраивал Каяян, Мерри, раздевшись, набросила на себя прозрачный пеньюар, который купила днем, надушилась, пошла в спальню Карреры и присела к нему на постель.
— Что-нибудь случилось, милая? — участливо спросил он.
— Нет, все в порядке.
— А, тебе хочется поговорить на сон грядущий? Я очень рад!
— Поговорить? Не совсем. Мне хочется побыть с тобой, — сказала Мерри. Рауль пытался возвести между ними стену, но Мерри его не винила. В чем же крылся его недуг? Мерри от всей души хотела помочь ему, сделать все, что было в ее силах.
— Что ж, побудь. Вот он я.
Может быть, он привык играть пассивную роль, подумала Мерри. Хочет, чтобы она взяла инициативу в свои руки? Если дело только в этом, то все ее страхи и ночные бдения не просто нелепы, но и вообще яйца выеденного не стоят. Чего тут страшного? Напротив, это вполне нормально!
— Можно, я залезу к тебе? — спросила она.
— Что? — произнес он. Но это был не вопрос. Но и не ответ. Мерри даже не поняла, приглашает ее Рауль или прогоняет.
— Значит… Значит, можно?
— Да, — сказал он. — Можно.
Но не кривил ли он душой? Или он согласился только из чувства такта, не желая ее обидеть? Сейчас она это выяснит…
Мерри проскользнула под одеяло и прижалась к Раулю.
— Ой, как хорошо, да? Я тебя так люблю, мне так хочется быть к тебе поближе, ощущать твое тепло. Тебе так нравится?
— Да, — сказал он. — Мне так нравится.
Он закурил, а Мерри стала раздумывать над этим его поступком, как ученый раздумывает над новым фактом. Пожалуй, подумала Мерри, это говорит в пользу ее гипотезы — Рауль хочет — или вынужден — играть пассивную роль. Но даже придя к такому выводу, Мерри не хотела слишком давить на него, не хотела торопить события. Она решила, что должна оставить лазейку, путь отступления и для себя и для них обоих. Она требовательно протянула руку, растопырив два пальца в виде черчиллевского знака «V». Рауль улыбнулся и протянул ей сигарету. Мерри затянулась и вернула сигарету.
Вот тут-то ей и подвернулся случай, которого она ждала. Отдав сигарету, она как бы невзначай положила руку на его живот. Рауль никак не отреагировал, продолжая курить. Мерри чуть пошевелила рукой, потом, осмелев, опустила ее и погладила по бедру. Затем стала гладить его живот, время от времени как бы ненароком проводя пальцами по шелковистым завиткам волос на лобке. Она старалась делать вид, что это происходит как бы случайно, словно она вовсе об этом не думает, а делает это просто так, как бы между прочим.
Она прикоснулась к его члену, потом погладила по бедру, обвела пальцами округлость мошонки и снова дотронулась до члена. И тут Рауль взял ее за руку. Мерри испугалась, думая, что сейчас он признается ей в том, что не хочет или не может… Но нет, к ее удивлению и облегчению, Рауль только крепко стиснул ее ладонь и сказал:
— Я люблю тебя.
— И я люблю тебя. Я тебя очень люблю. Просто очень, — забормотала Мерри и поцеловала его.
Некоторое время они молча лежали так. Потом Рауль стал гладить ее груди, лаская соски, проводил кончиками пальцев по шее и, наконец, со словами «О, Мерри! Милая моя Мерри! Бедная, чудесная Мерри!» порывисто прижал ее к себе, потом поцеловал и, раздвинув ее ноги, быстро, одним толчком проник в нее.
То ли оттого, что ее снедало беспокойство и она столько времени томилась в неведении, то ли оттого, что они впервые познали друг друга, ожидаемого взрыва с фейерверком не последовало. Каррера показался ей довольно безучастным и отрешенным. К тому же все случилось слишком быстро. Едва кончив, Каррера тут же скатился с нее, потянулся за сигаретой, закурил и молча лежал, не обращая на Мерри ни малейшего внимания.
Словно ее тут и не было, словно они только что вовсе не предавались любви.
— О чем ты думаешь? — спросила она.
— Ни о чем.
Мерри не поверила. Но поделать ничего не могла. И пытать его не собиралась. Мерри решила, что не будет ничего говорить, ни о чем спрашивать, чтобы не показаться Каррере слишком назойливой. Она долго лежала, обдумывая, как быть дальше. Лучше всего незаметно уйти, когда он уснет, решила Мерри. И, приняв решение, в последний раз попытала счастья:
— Я люблю тебя, Рауль.
— И я люблю тебя, Мерри.
— Чудесно.
— Но…
— Что?
— Но ты должна меня понять. Ты ведь наверняка уже заметила, наверняка поняла за те несколько недель, что мы вместе, да и сейчас тоже, что я не… Что я не могу… Что я не способен функционировать как обычный любовник.
— На это нужно время. Мы должны просто привыкнуть друг к другу.
— Нет, дело вовсе не в этом. Будь все так просто, жизнь казалась бы раем. Я бы только счастлив был с тобой согласиться. Но не могу. Потому что хочу быть перед тобой до конца честным.
— Ты только не отчаивайся. Мы должны обязательно попытаться…
— Поверь, мои жены говорили то же самое, — сухо произнес Каррера. — Я был женат дважды, на самых красивых женщинах в мире. Клотильда и Моник… А теперь у меня есть ты. И было бы нечестно не сказать тебе, что я уже пытался. И не однажды, а бессчетное число раз!
— Неужели ничего нельзя сделать? А ты обращался к врачу или к психотерапевту?
— Нет, — ответил он неожиданно резко. — И никогда не стану.
— Почему? Ты не веришь, что это можно исправить?
— Напротив, очень даже верю. Но я вовсе не уверен, что хочу обрести «нормальность» ценой того, что я лишусь всего остального. Допустим, что я «вылечусь», — что, кстати, вовсе не гарантировано, — и что тогда? Я утрачу свое особое видение мира, свои уникальные качества. Нет, это будет далеко не равноценный обмен.
— Ты имеешь в виду свое творческое видение?
— Ну, конечно. Но не только. Моя жизнь состоит не только из фильмов, которые я уже снял или которые собираюсь еще снять. Понимаешь, я получаю наслаждение от своего естества. Да, порой мне случается сесть в лужу — как, например, сейчас. Но ведь и с нормальными людьми бывает то же самое. Зато у меня, в силу моей уникальности, обостренное восприятие жизни, с которым я никогда не захочу расстаться, говорят, такое восприятие жизни свойственно еще больным чахоткой. Хотя я, в отличие от них, дышу спокойно и в свое удовольствие и не страдаю от какого-нибудь рокового заболевания.
— Но что же с тобой такое? То, что у тебя. Это «болезнь»?
— Специального термина не существует. Думаю, что ближе всего подойдет просто «половая слабость».
— И из-за этой слабости ты обостренно воспринимаешь мир?
— Да. Именно так. Да, я слаб, но я жив! Как ты успела заметить. Я восхищаюсь тобой, способен тебя возжелать и отдаю дань твоим прелестям. Но вот удовлетворить твои сексуальные потребности я не в состоянии.
— Господи, откуда ты знаешь? Как ты можешь судить о моих сексуальных потребностях?
— Ты же сама пришла ко мне сегодня. Помнишь?
— Помню.
— Ну так вот, я не способен и никогда не смогу обеспечить тебе сексуальное удовлетворение, которое тебе требуется и которого ты заслуживаешь как сногсшибательно красивая женщина. Но меня нельзя упрекнуть в жестокости, ревности или несправедливости. Поэтому я хочу, чтобы ты находила себе партнеров на стороне. Я даже настаиваю на этом. Но мне это вовсе не безразлично, нет. Страдать я, конечно, не стану, поскольку не сентиментален. Но вот frisson[34] сожаления и в то же время искупительный восторг из-за того, что ты все-таки не лишена того, чего бы я так хотел тебе дать, но не могу, я испытывать, безусловно, буду. Потому что я и в самом деле люблю тебя.
— Так ты хочешь, чтобы я… спала с другими мужчинами?
— И да и нет. Но тебе придется — другого выхода нет. С моего согласия.
— Но…
— Подумай об этом. Пожалуйста, — попросил он. И, повернувшись к ней, обнял рукой за шею, заглянул в глаза и повторил: — Пожалуйста! И ничего больше сегодня не говори. И завтра тоже. Но подумай. Ты свободна. Ты можешь уйти, если хочешь. Можешь остаться. Можешь быть «верной» или «неверной». Ты ни за что не отвечаешь. Отвечаю только я — душой и телом. Подумай и прими решение. И помни: мое искалеченное «я», насколько это только возможно, любит тебя.
— Я подумаю, — пообещала Мерри.
— Хорошо. Иди и подумай. Ступай.
Что же, по крайней мере, теперь она знала. Мерри поцеловала Рауля в губы и вернулась к себе в спальню.
Простыни показались ей ледяными. День, конечно, выдался сырой и прохладный, в Париже стояла промозглая осенняя погода, но Мерри думала вовсе не о погоде и не о том, что только что покинула уютную теплую постель, променяв ее на холодную.
Признание Рауля, как и его предложение, испугало Мерри. Все вышло не так уж страшно, как она представляла; странность Рауля на поверку оказалась куда менее серьезной, чем она опасалась. Да и его предложение о том, как они могут строить свою жизнь и как ей себя вести, было вполне логичным и справедливым. И тем не менее — пугающим. Ей предстояло самой принять труднейшее решение, невероятные правила игры без ограничений, игры, в которой ей не от кого ждать помощи, а можно рассчитывать только на собственные силы. И Мерри тщетно пыталась представить, как сможет себя вести, сумеет ли выстоять, приспособиться к новым условиям. Ей казалось, что она поняла Рауля, восприняла его точку зрения об уникальности творческого видения и обостренном восприятии мира. Но она отнюдь не была уверена, что готова разделить его мировоззрение, что согласна с ним во всем. От этого веяло таким одиночеством…
И тут она вспомнила, как он обнял ее за шею и сказал: «Подумай об этом. Пожалуйста».
Да, она подумает. Первым же делом, как проснется.
И тогда примет окончательное решение. Если еще его не приняла.
И Мерри подумала, догадывается ли Рауль о том, что творится у нее в душе.
На следующее утро она проснулась, привела себя в порядок и вышла к завтраку. При виде Рауля, который сидел в кресле в шелковом темно-бордовом халате от Эрме, все сомнения, роившиеся в ее голове, вмиг рассеялись. Он выглядел таким беззащитным и трогательным, хотя, без сомнения, пытался скрыть от нее свое состояние. Или нет — он был такой же, как всегда. Но Мерри теперь, когда узнала, в чем кроется тайна его болезненной неполноценности, уже воспринимала его новыми глазами. Она подошла к нему, нагнулась и поцеловала в щеку. Потом села напротив, возле огромного окна, выходящего на Сену, и налила себе стакан апельсинового сока.

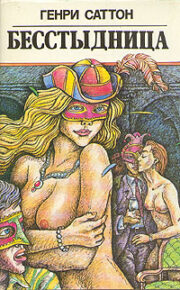
"Бесстыдница" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бесстыдница". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бесстыдница" друзьям в соцсетях.