Катя решилась-таки спросить:
– А он как? Ты поняла, о ком я.
Со спокойной горечью человека, волей-неволей привыкшего к ежедневному горю, Маша произнесла:
– Алёша жив. Недавно вышел из комы. Кости срослись, раны затянулись. Но полностью парализован. Не понимает ничего. Совсем. Врачи говорят, что так может и остаться… Только, Кать, я за два месяца разного насмотрелась: бывает, ребята вроде безнадёжные, а поправляются. Хотя… на прошлой неделе троих похоронили. Зато недавно Женька Махов выписался из пятой. Год здесь был. Тоже кома, паралич. И выкарабкался. – Маша сглотнула: – А Лёшик, знаешь, смотрит своими огромными глазищами – похудел ужасно – глаза ещё больше кажутся – и не узнаёт: ни меня, ни отца Георгия, ни монахов… Он просто лежит, смотрит. И всё.
– То есть мало шансов… А батюшка с тобой как? Он вообще приходит?
– Конечно, приходит. – Маша усмехнулась: – Он меня сначала не узнал. А потом присмотрелся и оторопел. Глазам не поверил. Но орать не стал и гнать, как в прошлый раз. Да и куда гнать? Я в отделении официально работаю. В две смены, часто вообще домой не ухожу. Мы с батюшкой разговорились понемножку. – Маша вздохнула: – Представляешь, оказывается, у него сын погиб. На мотоцикле разбился. В девятнадцать лет, почти как Лёшику. Тогда отец Георгий в монастырь ушёл. Вообще он хороший дядька. Со своими тараканами в голове, но ничего, нормальный. Алёшку любит сильно. Как родного. Вот мы вместе тут с Лёшиком и возимся: купаем, поднимаем, переворачиваем, чтоб пролежней не было. Я так переживала, когда ИВЛ ставили…
– Чего?! – не поняла Катя.
– Искусственную вентиляцию легких. Ну, когда в коме ещё Лёшик был. Он же поёт, а тут могли связки задеть. Ох, и наплясалась я перед врачами! Вроде постарались. Но не знаю, что в итоге. Не говорит ведь пока. – Машин взгляд потускнел: – Если вообще заговорит…
– Может, и хорошо, если не заговорит, – мрачно заметила Катя. – Он тогда тебе такого наговорил… Я до сих пор не могу понять, как после всего того ты решила ради него собой жертвовать, работать в этой ужасной больнице и вообще делать всё, что ты делаешь! Он же преступник. Маньяк! Жаль, смертную казнь отменили, но хорошо, что он сам…
– Не надо, Кать, – взмолилась Маша.
– Мне просто за тебя обидно! И страшно. А если он придёт в себя и за старое – мстить или ещё чего? Психи, они не лечатся…
– Кать! Я прошу тебя! Прекрати! Сейчас же!
– Ладно, прости. Я просто… не могу, – Катя покачала головой, – и по тебе скучаю. Сильно.
– Я тоже.
Катя достала из сумочки кошелёк:
– Марусь, по твоей квартире: я за коммунальные плачу, но ты знаешь, я считаю, этого мало. Я тебе буду и за аренду платить. А то ты как сорвалась тогда, пропала, ни о чём толком не договорились. Вот тут денежка.
– Да брось!
– Нет, ну чего брось?! Ты же в Краснодаре сама наверняка квартиру снимаешь! Не бесплатно! Я вообще не понимаю, на что ты живёшь? Родители присылают?
Маша криво улыбнулась:
– Не-а, в основном на Далановы деньги. За клип. Прикинь, ещё остались…
– Ничего себе! – удивилась Катя.
– Гонорарчик века, – хмыкнула Маша и добавила: – Я просто ничего почти не покупаю: по мелочи только. По магазинам шляться некогда. Хотя вот кеды купила и толстовку… Зарплата у меня великая – девять тысяч – это за две смены. Одним словом, справляюсь.
– Слушай, ты тут свою повинность выполняешь, потому что тебе совесть велит, а меня заставляешь мучиться от угрызений. Так нечестно! – возмутилась Катя. – Короче, бери деньги – тут за полгода, а не возьмёшь, я тебе просто их на карточку сброшу. Номер разузнаю, уж не волнуйся.
Маша пожала плечами:
– Ладно, Катка, раз настаиваешь…
– Настаиваю! Ты, кстати, где живёшь?
– Да тут, напротив, в пятиэтажке. Снимаю однушку. Ничего так, пойдёт для сельской местности.
Катя удручённо посмотрела на подругу:
– Марусь, может, всё-таки ты уже отработала своё, а? В больницу устроила – не то умер бы уже, вон откачали, полечили, как получилось. Но ты ж не будешь всю жизнь купать, переворачивать и о пролежнях думать?
Машино лицо стало суровым:
– А что ты предлагаешь? Бросить?
– Ну, он же не один. С батюшкой. Тот, сама говоришь, его любит…
– Я тоже люблю, – буркнула Маша.
– Маш! Ведь он на тебя нападал, помнишь?! И говорил, чтоб ты ушла!
– То был аффект. Если б не я, он жил бы спокойно в своём ските. И такого ужаса бы с ним не случилось.
– Но ты же танцовщица от Бога! – воскликнула Катя. – Талант зарывать – большой грех!
– Ты не понимаешь. – Маша посмотрела куда-то в сторону. – И Юрка не понимает – уже два раза приезжал забирать; считает, у меня просто эмо-закидон. И хорошо, что не понимаете. Не дай бог кому-то такое чувствовать, что я…
Катя замолчала. Из правого крыла коридора послышался чей-то хриплый крик:
– Маша! Маша! У нас тут беда! В четвёртой палате… Маша!
Маша поднялась:
– Опять небось Егорыч до туалета не доковылял. Ладно, Катюш, мне пора! Спасибо, что зашла!
И, чмокнув подругу в щёку, Маша побежала в глубь коридора – спасать Егорыча или кого-то там ещё. Катя с грустью посмотрела ей вслед, понимая, что переубедить не удастся.
Маша далеко не всем поделилась с подругой. Не сказала, что пока Алёша был в коме, по случайности или по чьему-то злому умыслу два раза отключались аппараты жизнеобеспечения. Но повезло – один раз дежурная, другой – сама Маша оказалась рядом. Не рассказала она о том, что её подозрения относительно Юриной причастности к падению Алексея росли с каждым днём. Не рассказала, что несколько раз наведывался сюда следователь. Он выудил от членов съёмочной группы информацию о нападении, но Маша сказала, что ничего особенного не произошло – обычная ссора, и подписала бумагу о том, что к Алексею Колосову претензий не имеет. Не призналась Маша Кате, как на коленях молила отца Георгия не забирать Алёшу в монастырскую больницу после соборования, когда тот вышел из комы, и только каким-то чудом убедила батюшку, что здесь у Алёши больше шансов восстановиться. Не сказала Маша, что Алёшин врач, Артур Гагикович, уже достал её недвусмысленными предложениями.
Глава 2
Кто я?
Каждый день Алёша просыпался, но глаза не открывал. Не хотелось. Ничего не хотелось. Он как-то попробовал пошевелить рукой, не вышло. Рука не слушалась, а, может, её и не было вовсе. Он не чувствовал ног, тела, ничего. В темноте закрытых глаз было тихо, покойно. Вдалеке что-то негромко, однообразно шумело. Скоро Алёша догадался – это машины за окном, много машин, которые едут и едут куда-то. А ему никуда не надо ехать. Хорошо.
Иногда слуха касалось лёгкое шуршание бумаги. Звонкий девичий голос начинал почти нараспев говорить – к примеру, вот такое:
– Лёшик, послушай, как красиво:
Мы – источник веселья и скорби рудник.
Мы – вместилище скверны и чистый родник.
Человек, словно в зеркале мир – многолик.
Он – ничтожен и он же – безмерно велик.
– Верно сказано, правда? Это Омар Хайям, мне очень нравится. И ещё:
Ты – рудник, коль на поиск рубина идёшь,
Ты – любим, коль надеждой свиданья живёшь.
Вникни в суть этих слов – и нехитрых, и мудрых:
Всё, что ищешь, в себе непременно найдёшь…
С кем разговаривала девушка, было непонятно, но Алёше голос нравился: лёгкий, музыкальный. И кажется, слышал его где-то. Так продолжалось неопределённое время: отдалённый гул автомобилей, шорох страниц, мелодичные, умиротворяющие строки, а потом долгие промежутки затишья и туманная полудрёма. Бывало, слышались и другие голоса: сухой, уверенный, вроде бы доктора, а ещё бархатистый мужской. Этот тоже читал, но скучно, монотонно. Молитвы, наверное. И разговаривал по-отечески с каким-то Алексеем, рассказывал про скит и горы, про митрополита и далёкую, чужую жизнь. Порой что-то навевало знакомые ощущения, как сюжет старой книги, прочитанной давным-давно. А потом улетало снова. Далеко. В туман.
День ото дня до Алёши доносился шум отворяемой двери, шаги, то мягкие и неровные, будто кто-то прихрамывал в тапочках, то быстрые, то летящие, то тяжёлые. И Алёша понимал, что рядом ходят разные люди.
С голосом девушки, что читала стихи и книги, приходило иногда непонятное смятение. А она была той ещё болтушкой: рассказывала всякую ерунду, часто было даже не ясно, о чём, но как-то задорно, весело и хотелось слушать. Она умела раскрасить, придать новые нотки его настроению, заставляла волноваться и тихо радоваться чему-то, и тогда из глубины него самого, из сокровенных пещер вырывались наверх облачка эмоций.
Алёша так и прозвал девушку «Болтушка». Он уже привык, что после чтения и баек Болтушка объявляла «музыкальную паузу», которая длилась долго и была особенно приятной. Песни и композиции ласкали слух, Алёша даже иногда внутренним голосом повторял их. И тогда ему становилось хорошо. Иногда Болтушка не угадывала, и музыка Алёше не нравилась. Но он всё равно слушал: «просматривал», как картинки, ушами ноты, гармонии, аккорды. Было занятно. Каждый раз, просыпаясь, Алёша играл в «угадайку»: поставит ли Болтушка что-то новое или включит старое, и очень радовался, когда отгадывал верно.
Иногда с ним что-то делали, он не понимал что – в его мире оставались только звуки – ни прикосновений, ни боли, ни удовольствия. И это Алёшу не тревожило – его ум и уши жили сами по себе, в какой-то тёплой, тёмной массе.
Однажды Болтушка не стала ничего рассказывать. Он слышал: она где-то рядом – встаёт и ходит, издаёт странные судорожные звуки, от которых внутри становилось муторно, неприятно. И вдруг Алёша услышал её очень близко: дыхание, всхлипывания – и он понял – Болтушка плачет, заливается слезами, приближается так, что вот-вот проникнет в него самого – туда, где он прятался от всех. Сквозь рыдания он различил шепот: «Алёшенька, Лёшик! Ну что же ты?! А если аппараты отключат? Или опять замкнёт жизнеобеспечение? Что я делать буду? Лёшик, пожалуйста, возвращайся! Пожалуйста! Я же люблю тебя!»
И ему нестерпимо захотелось открыть глаза. Медленно к центру начали сдвигаться грузные, чужие глазные яблоки. Изо всех сил Алёша заставлял вялые, ленивые веки распахнуться, борясь со слипшимися ресницами. Внезапно в привычную темноту врезался свет, яркий, острый. В глазах защипало, и Алёша часто заморгал. Постепенно сквозь мутные пятна вырисовались бежевые стены, белый потолок, капельница и нежное лицо совсем близко. Болтушка вытирала тыльной стороной ладони глаза и вдруг встретилась с ним взглядом.
– Ой! – вскрикнула она. – Лёшенька! Очнулся! Надо доктора! Сейчас я Артур Гагиковича позову. Алёшенька! Счастье!
Она скрылась из виду. Алёша медленно повёл полуоткрытыми глазами и увидел пластиковые трубки, пара которых шла ему прямо в нос. И тут Алёша осознал, что совершенно не понимает, где находится, кто он, и что вообще происходит. Но размышлять об этом не хотелось, на него накатила усталость. Он заснул, не дождавшись возвращения Болтушки.
Долго проспать не удалось. Сердитый голос того самого, уверенного, заворчал:
– Тебе показалось. Изменений нет.
Алёша уже без прежних сложностей открыл глаза и увидел чернявую носатую физиономию над собой.
– Смотрите! Как же показалось?! – воскликнула Болтушка, дёргая носатого за рукав белого халата.
– Ба! Дорогая, да ты права! – возбуждённо сказал носатый и наклонился ниже. Он принялся производить манипуляции с Алёшиным телом.
Самому Алёше было всё равно, кто и что делает с его бесчувственным продолжением. Разве только Болтушка вызывала любопытство. Она светилась от счастья.
Надо же! Он открыл глаза, и это кому-то нужно! – удивился Алёша, думая, что в одном из своих снов он уже видел её, только немного другую. А что в ней было иначе, он не помнил.
На следующий день вокруг Алёшиной кровати собрались люди в чёрных балахонах, высоких шапках, с окладистыми бородами. Они долго-долго пели и бубнили, мазали Алёшин лоб чем-то масляным, крестили. Ещё через день перевезли его в просторную палату, где, судя по голосам и по тому, что удалось заметить краем глаза, лежало ещё двое пациентов.
Болтушка прибегала, врываясь, как свежий ветерок, в помещение с громким приветствием и звонкими шутками. Она, наверное, работала тут, потому что носила голубую униформу – такую же, как у других. В палате Болтушка разговаривала не только с ним, и Алёша даже иногда волновался, что она совсем перестанет рассказывать ему новую чепуху и ставить музыку.
Болтушка была очень занята. Она носилась по палате с тряпкой и шваброй. И похоже, не только по этой. Выносила утки, помогала переворачивать Михалыча на соседней кровати, пенсионера, упавшего с крыши сарая. Михалыч кряхтел и ойкал, с крестьянским простодушием вворачивая иногда крепкое словцо. К нему приходила похожая на него жена, такая же серая и ворчливая. С кучей пакетов и баночек.

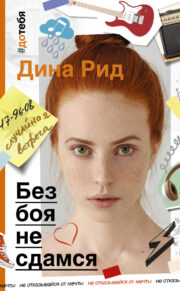
"Без боя не сдамся" отзывы
Отзывы читателей о книге "Без боя не сдамся". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Без боя не сдамся" друзьям в соцсетях.