Потом Болтушка умывала, перешучиваясь, смуглого, широкоплечего Глеба. Из их разговоров Алёша понял, что усатый фермер вылетел на мотоцикле на красный свет. У него что-то хрустнуло в шее, да к тому же раздробилось бедро. Однако Глеб не унывал, то и дело хватал Болтушку за руки. Она краснела. Алёша следил ревниво.
Болтушка каждый день приходила к Алёше, даже когда не работала. Даже измотанная, с тёмными кругами под глазами после дежурства. Она садилась рядом, и ему было хорошо, как дома, как с мамой. Во время обходов он видел её лицо за спинами врачей, а если не видел – знал, она рядом. Слушает.
Во время одного из таких обходов носатый доктор, Артур Гагикович, сказал жёстко, глядя Алёше в глаза:
– Ну, брат, тут одними лекарствами не спасёшься. Надо жить хотеть. А ты чего? Ты жить хочешь вообще? Или овощем остаться?
Возмущённый Алёша смотрел на него во все глаза, и только. А попозже вечером он услышал, как Михалыч с Глебом негромко переговариваются:
– Жалко девчонку. Она ж тут из-за него…
– А этот, похоже, вообще ничего не соображает.
– Ну да, сказал же Артур Гагикович, овощ. Он уже вот так месяца три после комы – ни тпру, ни ну…
– Да. Но с девкой ему повезло! Кто б со мной так носился! Как мать с дитём, – узнал Алёша кубанский говор Глеба.
– А ты отбей. Терпение, оно, знаешь, штука не железная, особенно в её возрасте, – прошептал Михалыч.
– И отобью.
Алёшу покоробило: он – не овощ, он – человек. Он… он… и вдруг понял, что и правда не живёт, просто плывёт по течению, как во сне, между берегов с названиями «хорошо» и «тихо», и даже не думает, кто он. А почему? Наверное, потому, что боится ответа.
В ту ночь Алёша долго лежал в темноте без сна. На соседней кровати сопел Михалыч, Глеб храпел художественно, выдавая невообразимые звуки: то бульканье, то свист, то рычание старого мопеда. Но потом переставал, и в палате воцарялась тишина. А за окном что-то шумело, гудело, раздавались сирены, бил дождь по стёклам, заливалась чья-то машина сигнализацией. Жизнь летела где-то там, мимо этих пластиковых окон, мимо больницы и этой палаты. Мимо. И Алексей почувствовал зависть, нестерпимую зависть к тем, кто рождает там, вдалеке, эти звуки.
«Я хочу жить…» – еле слышно, коряво выдавил из себя Алексей, прислушиваясь к тому, что неумело выдают пересохшие губы. Он бормотал эту фразу себе под нос, как молитву, изо всех сил пытаясь выровнять кривые звуки. Воздух путался в лёгких, выходил с кашлем, сипением. Связки, усохшие, скрипучие, не слушались, но Алёша всё равно шелестел, хрипел, выкашливал из себя: «Я хочу жить…»
Глава 3
Прозрение
Ранним декабрьским утром Маша пришла на смену, и прямо на входе ей заулыбалась Фёдоровна:
– А твой-то заговорил! И рукой шевелил сегодня…
Маша, как была, бросилась в пятую палату. Рядом с Алёшей стояла медсестра, сосредоточенно вкалывая ему что-то:
– Вот так, сейчас пройдёт, потерпи, голубчик.
– Х-харашо, – услышала Маша тихий голос. Она подошла к кровати:
– Привет!
Он поднял на неё глаза и скривил губы в подобии улыбки.
– П-привет, – с трудом произнёс он.
– Сам не спит и нам не даёт, – пожаловался Михалыч.
Маша всматривалась в Алёшу, пытаясь понять, вернулась ли к нему память, узнаёт ли он её – не сиделку и санитарку, а ту – другую Машу. Радовалась и одновременно боялась: а что, если правда вспомнит всё… Но нет, она была для него новым человеком, к которому недавно стал привыкать. Алёша казался ребенком, больным и беззащитным, готовым довериться кому угодно в незнакомой ситуации. Ничего похожего на прежнего Алёшу в его глазах не было. Может, это и хорошо…
Медсестра, складывая шприц в металлический поддон, сказала Маше:
– Представляешь, тело оживает, и боли вместе с ним. Уже третий раз колю. Так что, если снова закричит, зови. С пяти утра веселимся.
– Конечно, спасибо, – обернулась Маша и коснулась Алёшиной кисти: – Ты как?
– Х-холодная, – снова попробовал улыбнуться Алёша.
– Утро свежее, ещё не согрелась, – объяснила Маша и убрала руку: – Не буду тебя морозить.
Он едва мотнул головой, скривился, потом опять улыбнулся:
– М-морозь, т-так не больно.
Маша присела на стул возле него, глядя взволнованно и нежно:
– Давай ещё где-нибудь поморожу? Где болит?
– Л-лоб.
Маша положила ему на голову прохладную ладонь, и Алёша закрыл глаза. Напряжённое лицо расслабилось. Кто-то закричал из коридора:
– Маша! Александрова! В ординаторскую!
Но она не шелохнулась и держала ладонь на покрытом испариной лбу, пока Алёша не задышал спокойно – заснул. В дверном проёме показалась старшая медсестра:
– Александрова! Ну, долго тебя звать?!
Она поспешно поднялась и шепнула:
– Иду.
В ординаторской всего-то разбили вазу. Маша быстро вытерла воду, собрала подвявшие хризантемы в мешок для мусора и только потом пошла переодеваться. Как обычно, она бегала весь день, как солёный заяц, то в один конец отделения, то в другой, но улучала минутку взглянуть на Алёшу. Тот всё спал, усыплённый анальгетиками, растратив немногие свои силы ночью – на частичное пробуждение от более глубокого сна.
В свободную минуту Маша позвонила отцу Георгию – сообщить радостную новость. Он обещал приехать, как только сможет. Отец Георгий теперь служил при Екатеринодарской Епархии, и у него тоже было хлопот немало.
После обеда, перекусив на бегу, Маша снова пришла в ординаторскую – сестра-хозяйка велела помыть окно. Там был Артур Гагикович, один. Маша извинилась и сказала, что придёт позже, но он, нервно постукивая пальцами по бокалу с янтарной жидкостью, ответил, что она ему не помешает.
Маша поставила ведро на подоконник и потянулась к запылённой раме, как вдруг почувствовала большую, горячую ладонь на своём животе. Она скользнула ниже, прижала её бедра к твёрдому телу подошедшего сзади врача. Не контролируя себя, Маша развернулась и попыталась ударить хирурга по лицу. Тот поймал её руку в резиновой перчатке:
– Дерёшься?! – На Машу пахнуло спиртным.
– Что вы себе позволяете?! – Она порывалась уйти.
– Чувствуешь, как у меня руки дрожат? – Он обхватил её локти, прижимаясь сильнее. – Я нейрохирург. А если твоего Алексея оперировать придётся – как я с дрожащими руками? Успокой меня, Маша!
– Отпустите! – Она отвернулась, пытаясь выкрутиться.
– Ты же и не такое выделывала. Да, Маша? – шептал он ей на ухо. – Я клип видел. Ты хороша, чертовка! А какую недотрогу здесь строила! Но твой новый неформальный имидж тоже ничего – возбуждает.
– Как вы смеете?! – крикнула Маша. – Я Дмитрию Иванычу пожалуюсь!
Артур Гагикович ослабил хватку, и Маша отскочила. Он нехорошо улыбнулся, потирая пальцы:
– Жалуйся. Он сам уже не знает, как от ненормальной дочки друга отделаться. Так я, пожалуй, сделаю ему одолжение: попрошу священника забрать Колосова в монастырскую больницу.
– Не надо, – растерялась Маша.
– Тогда не строй из себя недотрогу, иди сюда.
Маша не пошевелилась, но на лице её читалось смятение. Крупный высокий врач подошёл ближе:
– Давай, Маша, поиграем. Иди сюда. – Он снова её прижал, и Маша почувствовала жаркое алкогольное дыхание. Руки хирурга шарили по спине, пробирались ниже.
– Не надо, – тихо повторила Маша.
– Брось, тебе же нравится унижаться. – Он коснулся противными влажными губами её шеи. – Это все видят.
Но Маша с силой оттолкнула Артура Гагиковича – так, что он отлетел, ударившись об угол стола, и сказала с пренебрежением:
– Думайте что хотите! Но ещё раз приблизитесь ко мне, и я отобью вам яйца! Идите за свой стол. Мне надо мыть окно!
Разъярённый хирург рявкнул на неё:
– Вон отсюда, дура! Другой кто-нибудь помоет!
Маша вылетела из ординаторской. Ей показалось, что все на неё смотрят. Быстрым шагом добралась до подсобки. Там между канистр с хлоркой, вёдер и швабр можно перевести дух. Маша села на корточки, прислонившись спиной к полке. Слёз не было, только кипящее возмущение, смешанное с недоумением: все видят, что она унижается? Думают, что ей нравится? Это правда? Но она не любит унижаться! И что теперь сделает Артур Гагикович? На самом деле будет мстить?
Маша взяла в руки щётку, лежащую на полу. Рассматривала её, будто видела впервые, и спрашивала себя: как она дошла до такой жизни? Дочь лётчика, командира авиалайнера, та, кого любит сцена, у кого всегда были толпы поклонников? А теперь к ней пристаёт похотливый врач средней руки, шантажируя и оскорбляя. И её место здесь – Маша усмехнулась с горечью – среди щёток и швабр… Безумие какое-то! Она поднялась, опираясь о холодную крашеную стену. Глаза привыкли к полутьме. Маша не торопилась возвращаться к работе.
А с чего все началось? С того, что позарилась не на своё. С жадности и гордыни. Лёня… Кстати, где он, «преданный друг»? Ни слуху о нём, ни духу. Разрекламировал себя как лучшего оператора видеоклипов, говоря, что с его лёгкой руки девушки становятся звёздами… Но, боже, она ведь и так была звездой! Пусть восходящей. Зачем ей кино? Разве она мечтала о нём с детства так, как мечтала о танцах? Разве она говорила хоть когда-нибудь, что хочет быть актрисой? Маша вспомнила себя в три года, лепечущую взрослым, что будет балериной.
Её одноклассницы, подруги – все метались: в какой университет отправиться или лучше сразу замуж; шли туда, куда говорили родители. И только она, Маша, всегда точно знала, чего хочет. И вдруг её потянуло на лёгкую славу, захотелось, чтобы все оборачивались вслед и шептали: это она, она… Маша снова усмехнулась: ну что ж, все и оборачиваются, только крутят пальцем у виска или пытаются залезть в трусы – как там, в известном теперь клипе.
Маша вспомнила об Алёше, сердце потеплело и сжалось. А ведь её отношение к нему – тоже жадность и наглая самоуверенность: мол, ей, раскрасавице, любой мужчина должен поклониться. Монахам нельзя? Только не с ней! Вот и решила прибрать симпатичного парня к рукам. Зачем? Разве, привлекая его, она хотела связать с ним жизнь? Нет, это была просто игра. И она проиграла…
Хлопнула дверь, кто-то подошёл к полкам. В полутьме Маша разглядела медсестру Таню. Ей было лет двадцать пять и не в пример нынешней Маше, Таня ходила в коротком вызывающем халатике, обвешенная золотом, с накладным маникюром и художественной росписью по лицу. Она по два раза на дню и чаще поправляла макияж. Не видя стоящей у боковой стены Маши, Таня потянулась к полке. Маша подала голос:
– Что-то ищешь?
– Чёрт, – выругалась Таня, – так же уписаться можно от страха! Ты чего тут притаилась?
– Да так, нашла место для медитаций, – ответила Маша.
Таня достала склянку с полки:
– А у меня тут ценный запас. – И поболтала жидкостью у Маши перед носом.
– Что это?
– Спирт. Чистый медицинский спирт. Хлебнуть хочешь?
– Не-ет, – отрицательно покачала головой Маша, – я тут вроде только отрезвела… после всего.
Таня внимательно посмотрела на Машу:
– Артурчик приставал?
– И это тоже…
– А ты?
– Послала его куда подальше.
– Ну и зря, – пожала плечами Таня, – он просто такой – стресс снимает: спиртным и сексом. Ты ж прикинь, Артурчик не железный – сегодня дядьку с того света вытащил. А ты его подальше…
– Извини, Тань, я не устраивалась сюда в качестве психологической разгрузки, а ты?
– А что я? Артурчик – душка и умничка. Подарки делает, вообще не жадный. Да и что там думать-то – пять минут делов?
Маша поразилась:
– Ты с ним спишь?
– Слушай, ты чего – с дуба рухнула? – не поняла Таня. – Тут все со всеми спят. Не заметила до сих пор?! Хотя куда тебе! Ты ж у нас вроде… не от мира сего.
– В смысле? Вы считаете меня ненормальной? – с вызовом спросила Маша.
– Не, ты не обижайся. Ты – хорошая. Вон больные тебя обожают. Отделение, как при тебе, никогда ещё так не блестело… Но, слушай, а как мы должны думать, если ты из Москвы, из группы «Годдесс» – ага, мы всё знаем, – вон в клипах снималась с Даланом… и вдруг становишься санитаркой. Одним словом, уборщицей. Да ты ж пришла к нам лысой и без бровей! Слава богу, отросло хоть что-то, – болтала Таня.
– Так вы считаете меня ненормальной? – повторила вопрос Маша.
– Да ладно, не парься, – улыбнулась Таня, – с тараканами или без, ты всё равно хорошая. Артурчика только не обижай! Он твоего Алексея по кусочкам семь часов собирал. Все ж помнят – парень был просто в хлам. Отблагодарила бы!
Маша поджала губы:
– И отблагодарю. Только не так. Спасибо, что раскрыла мне глаза.
– Да не за что! Там тебя, кстати, старшая искала.
– Пойду тогда. – Маша вышла из подсобки, щурясь.
Вдали, возле ординаторской Артур Гагикович, засунув руки в карманы, беседовал с каким-то представительным пожилым мужчиной. Маша подумала: «На депутата похож» и отправилась дальше мыть и драить. Она заглянула в пятую палату: возле Алёши сидел отец Георгий. Алёша смотрел на него так же, как и на Машу, не узнавая, с детской, святой доверчивостью. Маша вздохнула: нет, бросать она его не будет, не сможет… Не хочет. Но почему бы не перевести Алёшу в Москву? В институт Бурденко, например? И как ей это раньше не приходило в голову? Надо поговорить с батюшкой.

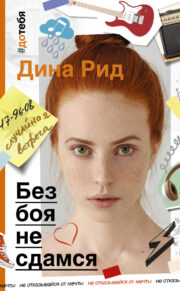
"Без боя не сдамся" отзывы
Отзывы читателей о книге "Без боя не сдамся". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Без боя не сдамся" друзьям в соцсетях.