Двадцать четвёртого декабря ребята собрались отмечать католическое Рождество. Им было всё равно, что отмечать, – главное, был повод устроить драйвовую вечеринку в клубе. Машу не только пригласили, но попросили выступить. Ей ужасно хотелось этого – сделать не просто выступление, а маленький номер в танце, как раньше, вот только времени подготовить что-то категорически не хватало. Маша пару дней мучилась, разрываясь между больницей с тряпками и утками, со стонами и гримасами, от которых она так устала, и возможностью творчества – светлого, праздничного, желанного. И наконец, решилась – отпросилась на двое суток у старшей медсестры.
Утром она зашла к Алёше, увериться, что он в порядке, что ему не хуже. Она с виноватой улыбкой попросила его не волноваться, сказав, что придёт только послезавтра, но дежурная медсестра Таня и другая санитарка Люся будут рядом и помогут ему в любом случае. Алёша пожал плечами и кивнул, словно давая добро. Маша ушла репетировать в Дом молодёжи, подспудно чувствуя себя предательницей и уговаривая, что всё это пустяки – ничего не случится.
Наступил вечер двадцать четвёртого. Мимо огней подсветки и красочных постеров, извещавших о самой крутой из хип-хоп вечеринок года, Маша прошла в клуб. Зал был затемнён, и народ собрался, разряженный по-разному: были и пацаны в ярких футболках и кепках, и разодетые в маленькие блестящие платья девчонки на высоких каблуках, и те, кто подчёркнуто приходил в спортивных костюмах на любую тусу. В общем, всё было, как всегда. Почётное место за пультом занял диджей Рив. Эр-Джен со своим коллективом начал разогревать толпу актуальным рэпом на злободневную тему. Диджей Рив, как сказали Маше, был представителем старой школы, а потому запускал в эфир не только классику уличного стафа, но и отличный живой скрэйчинг. У бара толпились желающие разогреться чем-нибудь погорячее.
Прошёл час, прежде чем развлекающий публику хардкорными шуточками ведущий Эм-Си-Макс объявил её выход. Народ приветственно загудел, когда Маша в красном костюме вышла на середину небольшой сцены. Огни погасли, и в наступившей темноте сначала тихо, а потом громче зазвучала ритмичная песня Бейонсе. Зажглись лампы перед сценой, и Маша начала преставление, глядя на море лиц и растворяясь в нём. Её тело в красном извивалось, ломалось под ритмами, горело в сексуальной энергии, изображая распутное кокетство, безудержное веселье. А потом, взлетев в высоком прыжке, Маша упала на доски сцены. Все, ахнув, подались вперёд, решив, что она разбилась. Но она не упала по-настоящему. Пару секунд Маша выдержала паузу, застыв на дощатом полу, не шевелясь, но потом забилась в театральной агонии, выгнулась, сдирая с себя огненную одежду. И, словно по щелчку пальцев, музыка сменилась на другую – мелодичную. Медленно, будто просыпаясь ото сна, Маша поднялась на ноги, оставшись во всём белом. Она рассматривала свои руки, тело, с изумлением, словно узнавала себя другую. Дёрганые, развязные движения первой части танца сменились на плавные, летящие. И Маша чувствовала, что тело летит само, а движения рождаются в груди – ноги и руки улавливают их сами. Спонтанно. Естественно. Без усилий.
В этом выступлении почти ничего не было от хип-хопа, но когда Маша, будто застыв в полёте, прекратила танцевать, публика разразилась аплодисментами и улюлюканьем. Под крики «Вау!», «Браво!», как губка, впитывая в себя человеческое восхищение и опьянённая им, Маша ушла со сцены. Совершенно удовлетворённая, счастливая, она переоделась обратно в джинсы и толстовку в некоем подобии гримёрки.
Маша вернулась в зал, и тут ей показалось, что у входа она видит Алёшу. Но перед ней протиснулся к бару толстый парнишка, и секунду спустя на ступенях фигуры со светлой копной волос больше не было. Маша встревожилась и пошла ко входу. Пока она пробиралась сквозь толпу, ей пару раз виделось лицо Алёши в профиль – будто он разворачивается и уходит. Понимая, что этого не может быть, Маша всё равно бросилась к парню. Через секунду она развернула за плечи того, кто между вспышками огней показался ей Алёшей. Светловолосый незнакомец улыбнулся ей и подмигнул. Вблизи он совсем не был похож на Алексея.
Маша вышла на крыльцо клуба и вдохнула свежего воздуха. «Нет, так нельзя, – подумала она. – Надо спать хоть иногда, а то уже галлюцинации начинаются». Но почему-то сердце не успокаивалось, колотилось в груди, сжималось, и голову наводняли беспокойные мысли: она сегодня не заходила в госпиталь, а вдруг что-то случилось – случилось, пока она развлекается. Вечеринка уже была не в радость, эйфорию от оваций и выступления сдули колкие порывы декабрьского ветра.
Маша забрала куртку из гардеробной и побежала по ночным улицам в больницу. Ну и пусть сейчас около двенадцати – она там работает, впустят. Через двадцать минут она позвонила в отделение.
– Ты что так поздно? Не твоя ж смена? – удивилась дежурная на пороге.
Но Маша, ничего не говоря и не спрашивая, бросилась к пятой палате. Дверь была открыта, как обычно. Машин взгляд метнулся к кровати перед окном – пуста. Алексея не было. Дежурная только успела её догнать, запыхавшись.
– Где… Алёша?.. – срывающимся голосом спросила Маша.
– Так я ж тебе хотела сказать, да не угналась, – его отец забрал. Сегодня вечером.
– Какой отец? Батюшка? – не понимала Маша.
– Да нет. Его отец. Родной, – ответила дежурная. – Куда-то в другой город.
Маша прислонилась к косяку. А дежурная достала из кармана бумажку:
– Вот, он тебе записку оставил.
Маша развернула смятый листок, выдранный из блокнота, и прочла написанный коряво, словно левой рукой первоклассника, текст:
«Маша. Я всё вспомнил. Прости меня. Прощай. Алексей».
Несколько секунд Маша осознавала прочитанное, не в состоянии поверить, но когда поняла, что это всё – конец, в глазах потемнело, по ногам разлилась слабость, и Маша рухнула без сознания.
Глава 6
Семья
Нанятый отцом современный автомобиль реанимации вёз по трассе мягко, увозя Алексея в нелюбимый родной город, подальше от Краснодара, от отца Георгия, от Болтушки. Алексею вкололи транквилизатор, и, несмотря на внутреннее сопротивление, он заснул почти сразу после того, как оказался в реанимобиле. Открыл глаза, когда автомобиль затормозил и отец командным голосом принялся отдавать распоряжения.
Дома, как и прежде, было богато, холодно и неуютно. Стены, отделанные тёмным деревом, кожаная мебель. Коричнево-бело-чёрная гамма. У Алёши даже зубы свело при виде всего этого. Не обращая внимания на нехорошее выражение на лице сына, отец проследил, чтобы того, как ценный груз, только что не в коробке, а на носилках, определили в комнату на втором этаже.
Когда медсотрудники и разный люд удалились, разложив Алёшины вещи и разместив его самого на специально купленной больничной кровати, отец и сын остались вдвоём. Алёша, превозмогая боль, приподнялся на локтях и с ненавистью взглянул на отца:
– З-зачем ты забрал меня? Н-не х-хватало игрушки для битья?
– Ты мой сын.
– Да ладно?
– Анализ ДНК подтвердил. Иначе мне бы не доверили опекунство. Ты – безработный инвалид, и за тебя решать должны родители.
Алёша криво усмехнулся:
– З-зачем столько хлопот? Когда у тебя был сын на двух ногах и просто не знал, как тебе угодить, ты его стыдился, потому что н-на тебя не похож. Д-да-да, уродец. В мать. Почки отбивал, рёбра ломал, помнишь? А теперь тебе в-вдруг понадобился калека? В к-качестве перманентной груши? Клёво, даже привязывать не надо!
– Что ты говоришь?!
– Что д-думаю.
– Я не буду тебя бить.
– Д-да ты с-сказочник!
– Алексей, – побагровел родитель, – ты хоть какое-то уважение к отцу имей.
– Не заслужил, – зло процедил Алёша и отвернулся.
Тот молчал, пунцовый, не готовый к вольностям сына, еле сдерживался, сжимая кулаки. Алёша выдержал паузу и добавил:
– Я всё равно встану. И пойду. И учти: поднимешь руку, я тебя убью. Найду чем. Даже если не сразу.
– Да как ты?!.
– Я смею. Я всё смею. Хочешь сделать мне больно? Стараться не надо – я всё время чувствую боль. Во всём теле. Постоянно. Рад?
– Алексей…
– А теперь оставь меня одного. Я буду заново привыкать к своей тюрьме.
– Это твой дом. А впрочем, говори что хочешь, – махнул рукой отец и вышел из комнаты. Через минуту он вернулся и положил рядом с Алексеем мобильный телефон.
– Если что нужно, нажми кнопку один. Сможешь?
– Смогу.
– Я рядом, – буркнул отец, но ответа не услышал. Михаил Иванович ушёл, прикрыв за собой дверь.
Впервые в жизни Алексей его не боялся. Совсем. Несмотря на безысходность нынешнего положения, отчаяние ушло. Полный озлобленной, бунтарской решимости, Алёша осматривал свою новую комнату на втором этаже. Конечно, чтоб не убежал – лестницу ему пока не одолеть. Да что говорить о лестнице, если каждое движение требовало нечеловеческих усилий и отдавалось то резаной, то колющей болью, дрожью в дряблых мышцах и испариной на лбу.
Отец постарался: перенёс сюда всё, что было в старой комнате сына, обстановка осталась почти такой же, как раньше, вот только добавилась большая плазма на стене, кровать для лежачих больных и явно дорогая инвалидная кресло-коляска. «Раскошелился», – поджал губы Алёша. Он скользнул взглядом по углам и увидел свои старые гантели. Они лежали слишком далеко – почти в трёх метрах, но Алёша упрямо сощурился – он доберётся. Со временем. Он не имеет права быть слабым. Ни здесь, ни где-либо ещё. Раз он выжил по Божьей воле, теперь другим распоряжаться своей жизнью не позволит. Разве только Господу. Иначе есть ли вообще смысл жить?
Алёша посмотрел на пузырьки с болеутоляющими – второй выход есть всегда – в изобилии, но он попробует бороться. И вдруг вспомнилось само собой:
«Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и да бежат от лица его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся…»
Алексей взглянул на мобильный телефон, но не стал звонить отцу Георгию. Зачем? Плакать, как мальчишка: заберите меня отсюда? Глупо. Жалко. Тот давно хотел отпустить его в мир. И он ушёл: не так, так эдак. Задержал вот только батюшку заботами в больнице. Кстати, скорее всего это он вызвал отца. После того как Алёша признался, что натворил. Больше некому.
Вспомнив всё, что произошло раньше с Болтушкой, с Машей, Алёша не знал, как вести себя с ней. В голове не укладывалось: он напал на неё, а она за ним ухаживает, почему? Почему она всё время в больнице? Неужели бросила сцену, свою жизнь? Из-за него? Или просто вмешалось что-то? Спросить не решался – воспоминания об их последней встрече заталкивали все вопросы вглубь, в глотку. Алёшу корёжило от боли в костях и от чувства вины, крутило от обиды и сумрака непонимания, от страха однажды снова поддаться безумию. И он молчал.
Однажды на ум пришёл Иисус, которому Мария Магдалина вытирала ноги волосами. Но он же Иуда скорее. И Маша остригла волосы свои рыжие, когда-то сводящие его с ума, стала на себя не похожей, другой совсем, бледной тенью. Алёша не мог даже признаться, что вспомнил её имя. Ему было больно, стыдно, неудобно. А она продолжала заботиться о других и о нём. Алёша теперь сгорал от стыда, когда она привычным жестом отбрасывала одеяло, чтобы поменять утку или помыть его. Он ухищрялся, терпел, притворялся спящим – лишь бы она не делала этого. Сходил с ума, прикованный, беспомощный. Может, оттого скорее научился шевелить руками, как бы они ни болели, делать большее – на удивление врачам. И порой хотелось наорать на Машу, прогнать прочь, чтобы не видела его никчёмным, голым, изуродованным. Мучился к тому же, думая, что она выполняет повинность, унижает себя и страдает от этого. Алексею это претило. Но она так искренне радовалась его маленьким успехам, так старалась, кохала его и лелеяла, как самого родного, что Алёша и прогнать её не мог.
Теперь дома он прокручивал всё в голове и думал: наверное, вовремя отец забрал его. Значит, так Господь решил. И отца Георгия освободил, и Машу. И больше нет этих ежедневных мук встречи с ней.
Алёша вспоминал молитвы, и когда не было сил что-то делать, читал их наизусть, закрыв глаза. С болью боролся так же, оставляя лекарства на крайний случай. Тело его было слабым, но Алёша не сдавался – терзал себя упражнениями, доводил до изнеможения. Он делал их по наитию, и от некоторых становилось плохо – сводило мышцы, и потом Алёша лежал ничком часами. Не в силах пошевелиться.
Отец редко наведывался. Ежедневно навещал Алёшу на дому врач, холёный, наигранно-весёлый Аркадий Петрович. Медсестра делала уколы и капельницы. От сиделки Алексей наотрез, с диким скандалом, отказался, страшась подспудно, что Маша и сюда приедет, как на каторгу, а потому на удивление быстро освоил кресло-коляску. Он пытался всё что мог, сделать сам. Благо отец и туалет, и душ, прилегающие к комнате, оборудовал специально под него. В комнате убирались женщины из агентства, еду приносила то кухарка, тетя Люда, то водитель отца, угрюмый, похожий на бандита Николай. Регулярно он сносил в автомобиль на руках хилое тело Алексея и возил на массаж и физиопроцедуры.

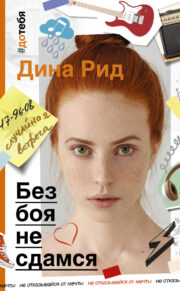
"Без боя не сдамся" отзывы
Отзывы читателей о книге "Без боя не сдамся". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Без боя не сдамся" друзьям в соцсетях.