— Опля! — Эмиль Харальд подхватил дочь.
Кирстен весело рассмеялась и привычно подставила личико для поцелуя.
При взгляде на свою прелестную дочурку у Эмиля сжалось сердце. Так было всегда, когда он смотрел на Кирстен — ее беззащитность заставляла страдать его всей душою. Господи! Он был готов на все, лишь бы защитить свое дитя…
Дочь и отец вошли в дом. Рывком отворив стеклянную входную дверь, всю покрытую паутиной трещин, кое-как заклеенных полосками липкой ленты, Эмиль провел Кирстен в выложенный белым кафелем грязный вестибюль и вызвал лифт.
Ржавые двери сырой, давно не убиравшейся, пропахшей запахом нечистот и пригоревшего жира кабины со скрипом затворились, и Кирстен со вздохом прислонилась к отцу. Для нее этот высокий худой человек с вьющимися белокурыми волосами, лицом, покрытым морщинами подобно коре доброго старого северного дуба, и голосом, звучащим словно успокаивающий шепот ветра, стал воплощением домашнего очага. С ним было покойно и безопасно, уютно и надежно; он был источником утешения, поддержки и ободрения для тринадцатилетней девочки, входящей в сложный и непонятный мир взрослых. С самого рождения Кирстен вверила отцу свое сердечко, и он держал его крепко и трепетно, словно священный сосуд.
Лифт остановился на шестом этаже, и двери, снова заскрипев, с неохотой отворились.
— Ну что, волнуешься перед сегодняшним вечером? — спросил Эмиль, направляясь по мрачному коридору к последней двери налево.
— Волнуюсь? — На мгновение Кирстен, казалось, смешалась. Но тут же теплая волна приятного воспоминания охватила ее. — Ну конечно же, волнуюсь, папочка! — Девочка одарила отца радостной и отчего-то немного лукавой улыбкой.
Сегодня Кирстен вели на первый в ее жизни концерт в «Карнеги-холл». Она просто не находила слов, чтобы описать свой восторг по этому поводу: подобные состояния она всегда гораздо красноречивее выражала за клавишами и теперь решила, что, как только окажется у пианино, сразу же сыграет полное жизни скерцо Шопена.
— Кирсти?
Эмиль кивнул на темно-коричневую дверь их квартиры. Сейчас следовала реплика Кирстен. Выпрямившись, как только могла, она расправила плечи, отведя их назад, приподняла нежно очерченный подбородок и изобразила на лице маску высокомерия и твердости. Как учили Кирстен, двери создаются для торжественных выходов, даже эти, ветхие и неприглядные. Увидев, что дочь готова, Эмиль принял напыщенно-важное выражение и, распахнув дверь, едва сдерживая улыбку, почтенно наблюдал, как Кирстен совершает свой очередной ослепительный выход в довольно мрачную полутемень их убогого жилища.
— Поздновато, cara mia! — крикнула из кухни Жанна Рудини Харальд — постаревший, но не менее прекрасный вариант собственной дочери.
Войдя в комнату, она хотела что-то добавить, но осеклась, увидев, что здесь же находится и ее муж.
— Ах, и ты явился! — широко улыбнувшись, воскликнула она. — Для тебя что-то рановато!
— Так у меня же дневной график на этой неделе, забыла? — Эмиль шагнул вперед, чтобы поцеловать жену.
Жанна в ответ крепко обняла своего обожаемого супруга с таким жаром, что Кирстен покраснела. Ее всегда смущали подобные сцены: слишком уж откровенны были родители в проявлении своих чувств друг к другу. Девочка вечно чувствовала себя навязчивым свидетелем, которому следовало бы поспешить на выход. Вот и на этот раз она, по обыкновению покраснев до корней волос, неуклюже обогнула острый угол кабинетного рояля тетушки Софии, а потом на цыпочках пробралась в свою комнатку. Ее клетушка была немногим больше тетиного рояля: все четыре стены здесь были оклеены обложками сотен программок из «Карнеги-холл» — Жанна годами собирала их для Кирстен.
Девочка швырнула книги на потрескавшийся кленовый комод и отворила окошко. Приподняв с затылка тяжелые черные волосы, она выглянула на улицу. Заходящее солнце огненными зигзагообразными вспышками играло на закопченных крышах и дымовых трубах. Все, что видела Кирстен, было покрыто грязью и заляпано голубиным пометом; узкие проходы между домами завалены пустыми картонными ящиками, связками газет, забиты ржавыми, искореженными мусорными контейнерами, переполненными зловонными отходами. Наверху, в сети пересекающихся веревок, в тщетной попытке высохнуть трепыхалось, заворачивалось, спутывалось белье — тоже все в саже. Таковы были пределы убогого мира, окружавшего Кирстен. И всякий раз созерцание его укрепляло девочку в решимости вырваться в конце концов из этой зловонной клоаки.
— Наступит день! — прокричала Кирстен парочке голубей, облюбовавших себе крышу дома напротив.
Наступит день, и музыка вырвет ее из трущоб и вознесет на самую вершину концертного мира. Наступит день, и она сможет отплатить своим родителям за ту веру, любовь и поддержку, которыми окружили ее с самого начала. Она сделает их жизнь спокойной, радостной и счастливой. Они забудут о бедности, забудут об унижении…
— Наступит день! — еще раз воскликнула Кирстен. — Клянусь в этом!
— А вот и твой сегодняшний вечерний наряд, carissima, — мягко окликнула дочь Жанна. Мать стояла в дверях и держала перед собой на вытянутых руках великолепное воздушно-легкое платье с двойной юбкой. — Только что закончила гладить! Думаю, нам лучше положить его на кровать.
У Кирстен перехватило горло при взгляде на реальное доказательство родительской любви. Последние две недели Жанна тратила все свое драгоценное свободное время на шитье платья для дочери, и результатом явилась потрясающая копия бледно-голубого вечернего платья из органди, которое Кирстен видела в витрине «Бонвит Теллер». Вместо органди оно было сшито из вискозы, но во всем остальном ничем не уступало оригиналу: такие же пышные короткие рукава, расклешенная юбка и королевский голубой бархатный пояс, бантом завязывающийся на талии.
— Спасибо, мамочка, — прошептала Кирстен, в порыве благодарности нежно сжимая руки матери.
Жанна в ответ обняла дочь и повела ее назад, в гостиную.
— Если ты действительно хочешь отблагодарить меня, — сказала она смеясь, — то лучше сыграй мне.
Никакая другая просьба не могла бы так осчастливить Кирстен. Усевшись за подержанное пианино, которое она любовно протирала каждый день, девочка закрыла глаза и мысленно представила себе первую страницу «Лунной сонаты» Бетховена — это была любимая мамина вещь. Низко склонившись над клавишами, она взяла первые аккорды пьесы с чистотой и ясностью, которые свидетельствовали не столько о долгих годах занятий, сколько о редком гениальном даре.
Бегая пальцами по клавишам, Кирстен чувствовала, как музыка нежными, мягко журчащими волнами охватывает все ее существо. Ощущение это медленно нарастало. Оно впитывалось через кожу, проникало в кости, волновало кровь и наполняло душу. Кирстен забыла о своем глубоком одиночестве и об окружающей ее бедности. Она была далеко отсюда, растворившись в блаженном состоянии, — в мире, где существовали только она и музыка.
Кирстен всей душой верила, что музыка и жизнь для нее едины. Она ощущала себя прелюдией и сонатой, этюдом и целым концертом, гавотом и вальсом, мазуркой и полонезом. Каждая взятая нота, гамма, арпеджио, трель или аккорд становились праздником. Любимыми ее композиторами были романтики, и каждый из них соответствовал определенному настроению: Малер и Штраус — мечтательности; Рахманинов, Чайковский и Шуман — эмоциям и драме; Брамс, Шопен и Лист — романтическим устремлениям. Для девочки, лишенной дружбы со сверстниками, друзьями были они.
Именно способность так слышать и так чувствовать музыку придавала страстную одержимость рукам Кирстен. Талант девочки был открыт совершенно случайно: когда ей было пять лет, на одном из домашних праздников ее усадили за пианино в гостиной тети Софии, и она сыграла вступление к «Лунной сонате» точь-в-точь так, как бог весть когда услышала его в исполнении Владимира Горовица на одной из затертых пластинок матери. Юная исполнительница тут же насмерть перепугалась, решив, что совершила нечто ужасное, поскольку услышала слово, смысл которого не понимала, но которое все родственники, присутствовавшие в гостиной, стали, кивая головами, повторять друг другу. Этим словом было слово «чудо».
Когда Кирстен спросила у матери, что означает реакция родственников, полученное неясное объяснение сопровождалось потоком слез, поцелуями и неистовыми нежными объятиями, и это еще больше напугало малышку. Однако в день, когда тетушка София подарила ей подержанный кабинетный рояль, все ее страхи улетучились.
Кирстен решила, что коли уж ей пришлось стать чудом, то у чуда должны быть и чудесные вещи, к тому же это давало ей возможность играть на рояле в любое время, когда захочешь. Но потребовалось еще три года и целая череда ничтожных, не отвечавших ее возможностям учителей, прежде чем появилась грозная русская концертная пианистка Наталья Федоренко, наконец-то действительно объяснившая Кирстен настоящее значение слова «чудо». Очень скоро честолюбивой мечтой Кирстен стало желание попробовать себя, подобно своей наставнице, в амплуа концертной пианистки; конечной же целью юная одаренность определила себе карьеру величайшей классической пианистки в мире. Признавшись в этом Наталье, Кирстен сделала первый шаг навстречу своей мечте. Следующим шагом должно было стать посвящение.
Кирстен исполнила его холодным, но ясным днем в конце января, по пути к пригласившей их на обед тетушке Софии. Девочка попросила родителей остановиться у «Карнеги-холл» и, пока они дожидались ее на углу, одна подошла к главному входу. Аккуратно обвернув колени полами пальто, она опустилась на ледяную нижнюю ступеньку и склонила голову. Закрыв глаза и молитвенно сложив ладошки у подбородка, Кирстен торжественно поклялась отказаться ото всего во имя музыки, противостоять всем соблазнам и, что бы ни случилось, оставаться верной своей цели. Затем Кирстен поцеловала блестящий новенький пенс, найденный ею вчера возле дома на тротуаре, и положила его на верхнюю ступеньку лестницы, как бы скрепив печатью торжественное обещание.
И до сих пор Кирстен оставалась ему верна.
В половине восьмого Жанна постучала в дверь дочери и спросила, готова ли она. Вместо ответа раздался вопль о помощи, и, войдя в комнату, мать увидела пыхтящую, раскрасневшуюся Кирстен, вот уже несколько минут тщетно пытающуюся изогнуться, чтобы застегнуть платье на спине.
— Молнию заело, — со слезами в голосе сообщила она.
— Ну, это беда поправимая, — успокоила ее Жанна. — Постой минутку спокойно… Вот так. Теперь все в порядке. — Молния, мягко шурша по шелку, медленно поползла вверх, и Кирстен вздохнула с облегчением. — А теперь, — Жанна нежно щелкнула дочь по тонкому носику, — дай-ка мне как следует рассмотреть тебя.
Кирстен моментально исполнила просьбу матери, сделав перед зеркалом несколько медленных пируэтов. Жанна с любовью смотрела на изысканное личико своей единственной дочери. Ее черные глаза наполнились слезами.
— Ты выглядишь, как настоящая принцесса, carissima, — прошептала Жанна. — Маленькая прекрасная принцесса.
— Как же я люблю тебя, мамочка! — воскликнула Кирстен, страстно обнимая ее за шею. — Я так люблю тебя и папу, и я так хочу, чтобы вы пошли сегодня вечером с нами, очень хочу! Это просто несправедливо!
— С несправедливостью ничего не поделаешь, cara mia. — Голос Жанны стал ласково-ворчливым. — Жизнь так устроена. Я никогда не хотела бы, чтобы ты увидела «Карнеги-холл» таким, каким я всегда его вижу. А теперь выбрось из головы чепуху о справедливости-несправедливости и отправляйся провести прекрасный вечер.
— Кирсти, ты готова? — позвал из гостиной Эмиль, пытавшуюся было возразить матери Кирстен.
— Иду, папуля!
Кирстен встречалась с Натальей у входа в «Карнеги-холл», и, хотя он находился всего в двух кварталах, отец настаивал на том, чтобы проводить дочь.
— Ваша свита ждет вас, мисс Харальд. — Эмиль приветствовал выход дочери из комнаты глубоким церемонным поклоном, в его нежных голубых глазах играли искорки озорства.
— Благодарю вас, сэр. — Кирстен, ответив отцу таким же глубоким книксеном, взяла его под руку.
— Постарайся хорошенько все запомнить для меня, ладно, bella? — попросила Жанна дочку, провожая их до лифта. — Как были одеты дамы, будут ли среди публики знаменитости, будет ли концерт…
— Лифт, мама. — Кирстен в последний раз быстро обняла Жанну.
— И не забудь принести домой программки, — напомнила Жанна, когда двери лифта уже закрывались.
— Три штуки, мамочка, — прокричала в ответ Кирстен, — по одной на каждого!
Выйдя из дома, Кирстен крепче прижалась к руке отца, пытаясь избавиться от поднимающегося сумасшедшего желания бежать по улице и рассказывать каждому прохожему о том, что она, Кирстен Харальд с Девятой авеню, идет в «Карнеги-холл» слушать концерт великого Артура Рубинштейна. «Карнеги-холл». Два волшебных слова. Она снова и снова повторяла их про себя. «Карнеги-холл». «Карнеги-холл». Родной дом Нью-йоркской филармонии, прибежище величайших музыкальных талантов мира, хранилище ее собственной драгоценной мечты. Даже после того как они наконец подошли к главному входу концертного зала, Кирстен все еще с трудом верилось, что происходящее не вымысел и они действительно здесь.

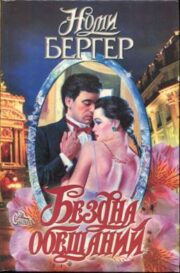
"Бездна обещаний" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бездна обещаний". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бездна обещаний" друзьям в соцсетях.