Лемерль молча слушал путаный рассказ. Изабелла говорила сбивчиво, частенько повторялась, точно сама хотела разобраться в случившемся.
Глубоко потрясенная утренними событиями, Маргарита отправилась молиться в часовню. Она преклонила колени на скамейке у запертой двери склепа и сомкнула глаза. Вскоре, уловив металлический лязг, она разлепила веки. У входа в склеп стояла бернардинка в коричневой рясе с льняным воротником. Лицо монахини скрывал белый накрахмаленный кишнот.
Растревоженная Маргарита вскочила и велела странной монахине назваться. Но от страха задрожали ноги, и Маргарита рухнула на пол.
— Откуда столько страху? — удивился Лемерль. — Разве мало у нас престарелых сестер? То могла быть и сестра Розамунда, и сестра Мари-Мадлен. Кишноты все изредка носят, особенно по такой жаре.
— Нет, никто их не носит! — взорвалась мать Изабелла. — Никто!
Увы, на этом происшествие не закончилось. Ленты на чепце странной сестры, ее воротник и даже руки были в крови. А еще — мать Изабелла понизила голос до шепота — с ее рясы сорвали бернардинский крест, на окровавленном батисте виднелись следы стежков.
— Это мать Мария, — бесцветным голосом пролепетала Изабелла. — Мать Мария воскресла.
— Ерунда! — решительно вмешалась я. — Вы же знаете Маргариту, ей и не такое привидится. Год назад ей померещилось, что из трубы пекарни вылезают демоны, а это галки под карнизом гнездо свили. Люди из мертвых не восстают!
— А вот и восстают! — запальчиво возразила Изабелла. — У меня дядя епископ, много лет назад он с подобным в Аквитании сталкивался.
— С подобным? — переспросила я. Стараниям вопреки прозвучало язвительно. Изабелла глянула на меня, очевидно решая, какому наказанию подвергнет меня сей раз.
— С ведьмовством, — процедила она.
На миг я потеряла дар речи.
— Не понимаю, — наконец проговорила я. — Мать Мария была сама доброта и мягкость. Неужели вы…
— Диавол принимает и благовидные обличия, — заявила Изабелла, как точку поставила. — Все признаки налицо — кровавая скверна, мои сны, а сейчас и дьявольское явление… Разве нужны еще доказательства? Иных объяснений просто нет!
Дальше я слушать не могла.
— Людям с богатым воображением мнится то, чего на самом деле нет, — начала я. — Если бы монахиню видела не сестра Маргарита…
— Так и было! — с торжеством воскликнула Изабелла. — Мы все ее видели! Все!
Правда, но не до конца. Маргаритины вопли слышали полдюжины монахинь, в том числе и мать Изабелла. Вбежали с яркого солнца в сумрак часовни — разумеется, много разглядеть не удалось, только женский силуэт, белый чепец… Завидев монахинь, призрак метнулся в склеп. Тогда и подоспели другие сестры. Впоследствии каждая из них божилась, что видела призрака, хотя на деле прибежавшие позднее застали лишь кутерьму и переполох. В «видевшие» набивались даже те, кто после обеда работал на полях. Как бы то ни было, мать Изабелла, захватив фонарь и распятье, вместе с Маргаритой и Томазиной вошла в склеп искать следы. Сначала отперли дверь, сквозь которую живому человеку не просочиться. Поиски успехом не увенчались. Призрачную монахиню не обнаружили. Печать на могиле матери Марии оказалась цела, известка еще не высохла, а неподалеку… Неподалеку краснел ручеек сладко пахнущего ихора, который испортил колодезную воду. Ручеек этот тек из-под каменного гроба матери Марии…
Обеспокоенный Лемерль возжелал немедленно осмотреть место происшествия. Я вернулась к своим обязанностям. Мать Изабелла не скрывала недовольства тем, что я сопровождала Лемерля в Барбатре, но его объяснение — мы отнесли еду и целебные снадобья бедной семье — нехотя приняла. Меня отправили на кухню чистить овощи для ужина, и я спокойно все обдумала.
Слишком много совпадений! Неделю назад я ездила в Барбатре, и именно в тот день исчезла Перетта. Сегодня Маргарита видела призрака тоже в мое отсутствие. Оба раза я была с Лемерлем. Он увозил меня специально, чтобы не вмешивалась. А ведь окажись я на месте, непременно вмешалась бы! Но зачем ему все это? «Розыгрыш», — сказал он, вручая мне красящие таблетки. Фальшивый призрак монахини в чепце — тоже розыгрыш? Клемента легко согласилась бы в нем поучаствовать. Только зачем Лемерлю два жестоких розыгрыша подряд? Излишнее внимание к монастырю и своей персоне ему совершенно ни к чему. Лемерль хитер как лис, и для розыгрышей наверняка есть веская причина, просто я ее пока не вижу. Выяснить бы, кто изображал призрака и как ему удалось буквально сквозь землю провалиться… Но второй «розыгрыш» поднял такую суматоху, что теперь ни одна болтушка рот не раскроет. Лемерль на это и рассчитывал? Сколько мелких поблажек с отсроченным платежом он сделал? Сколько помощниц завербовал? Альфонсину? Клементу? Антуану? Меня?
28. 29 июля 1610
В монастыре воцарился раздор, сестринская сплоченность низвергнута и выброшена за ненадобностью, подобно статуе нашей покровительницы. В наказание за праздность Клементе целую неделю велено рыть ямы для отхожих мест, только ей не до этого. Неужели мерзкий запах ее нынешних работ отвратил Лемерля? Или жестокое непостоянство у него в крови? Черным дроздам нравится портить плоды: то тут клюнут, то там, и ни один им не гож. А Клемента его любит? Мечтательная отрешенность, несчастный вид, когда Лемерль ее не замечает, говорят «да». Вот дура! Жермена Клементе больше не нужна, хотя вызвалась помочь ей с ямами — что угодно, только бы быть рядом.
Сегодня утром удалось наконец поговорить с Переттой, но та была на редкость беспокойной и рассеянной, и я ничего не добилась. Может, злится на меня? Перетту же не поймешь. Рассказать бы ей про Лемерля, про Флер, про оскверненный колодец, но мое молчание — залог дочкиной безопасности. Нужно в это верить, иначе с ума сойду. Поэтому я храню секреты от подружки и стараюсь не обижаться на ее холодную отчужденность. Без Перетты мне плохо, но без Флер куда хуже. Верно, в моем ледяном сердце хватает места лишь одной.
Розамунда теперь с нами не живет. Два дня назад ее перевели в лазарет к больным и умирающим. Сестра Виржини, молодая послушница, которую к ней приставили, наконец приняла постриг и теперь выхаживает хворых. Помню Виржини по урокам латыни — бесталанная дурнушка, а сейчас в ней проявляются грубоватые черты коренных островитянок. Чувствуется, мать Изабелла настроила девушку против меня. Это видать и по ее колючим взглядам, и по ее уклончивым ответам. Виржини только семнадцать, разве ей понять Розамунду? Молодость тянет девушку к новой настоятельнице, заставляет рабски ей подражать.
Вчера я видела Розамунду в саду у лазарета. Бедняжка сидела на скамейке, сжавшись в комок, будто пряталась от жестокости окружающего мира. Растерянная еще пуще прежнего, она взглянула на меня, но не узнала. Привычный ритм жизни нарушен, а с ним оборвана тонкая нить, связывающая Розамунду с настоящим. Теперь она — утлая лодка в бескрайнем море тревог. Сестра приносит Розамунде еду, хмурая девица ухаживает, а больше и словом перекинуться не с кем.
Вне себя от жалости и возмущения, я решила заговорить о Розамунде на утреннем капитуле. Лемерль на эти собрания не вхож, и я надеялась в его отсутствие переубедить настоятельницу.
— Сестра Розамунда не больна, ma mère, — мягко и вкрадчиво начала я. — Немилосердно лишать ее последних радостей — молитв, забот, разговоров с подругами…
Мать Изабелла взглянула на меня с надменностью двенадцатилетней девчонки.
— Сестре Розамунде семьдесят два, — изрекла она. Ясно, для Изабеллы это что тысяча. — Она не помнит, какой сегодня день, и никого не узнает.
Вот в этом все дело! Бедная старуха не узнает ее, точнее, не признает.
— К тому же сестра Розамунда очень слаба, — продолжала Изабелла. — Даже простейшие обязанности ей теперь не по силам. Разве не милосерднее даровать ей покой, а не утомлять работами? Сестра Августа, уж не завидуешь ли ты ее заслуженному отдыху? — подначила Изабелла, хитро сверкнув глазками.
— Розамунде не позавидуешь, — уязвленно пробормотала я. — Старуху закрыли в лазарете, потому что она немощна и чавкает за столом…
Опять я сказала лишнего… Юная настоятельница подняла подбородочек.
— Закрыли в лазарете? — переспросила она. — По-твоему, бедная сестра Розамунда стала узницей?
— Не приведи Господь!
— Ну что же… — Изабелла сделала паузу. — Навестить нашу престарелую сестру могут все желающие, разумеется, если сестра Виржини сочтет ее состояние удовлетворительным и даст добро. В трапезной сестра Розамунда не появляется лишь потому, что ее возраст и слабое здоровье требуют особого питания, чаще и обильнее, чем у остальных. — Изабелла снова покосилась на меня. — Сестра Августа, ты ведь не откажешь хворой подруге в небольших привилегиях? Ты и сама примешь их с радостью, если доживешь до ее лет.
Вот плутовка! Общение с Лемерлем даром не проходит! Теперь любое мое возражение примут за зависть.
— И я, и все остальные, ma mère, — отозвалась я. К моему удовольствию, Изабелла поджала губы.
Так провалилась моя попытка помочь Розамунде. Помочь не помогла, а палку перегнула, до конца капитула ловила косые взгляды матери Изабеллы и едва избежала нового наказания. Лишь когда я согласилась работать в пекарне — там грязно и жарко, а знойным летом особенно мерзко, — настоятельница успокоилась, по крайней мере временно.
Невысокая круглая пекарня притаилась в самой глубине монастыря. Окон в ней нет, только смотровые щели, света и от огромных печей хватает. Они стоят в центре зала. Подобно доминиканцам, хлеб мы печем в глинобитных печах, на каменных, докрасна раскаленных плитах, под которыми горит хворост. Дым уползает в трубу такой ширины, что в ее устье видно небо. В дождь на плиты падают капли и с шипением испаряются. Когда я пришла, две молодые послушницы готовили тесто: одна выбирала жучков из каменного ларя с мукой, другая разминала дрожжи, чтобы сделать опару. Печи уже растопили, вокруг них трепетал мерцающий полог — там было особенно жарко. За пологом стояла сестра Антуана, полные красные руки обнажены до локтей, волосы убраны под косынку.
— Сестра Августа!
В пекарне Антуана совсем другая: глуповато-добродушное лицо кажется холодным и сосредоточенным, а в отблесках красноватого пламени даже пугающим. Прибавьте к этому широкие плечи и мускулы, играющие под жировой прослойкой, когда она месит тесто, — есть чего испугаться.
Я взялась за работу — выкладывала тесто в большие формы и сажала их в печь. Тут надобна сноровка: каменные плиты должны равномерно прогреться: от слишком сильного жара корка подгорит, а мякиш не пропечется, а от слабого хлеба опадут и получатся жесткими. Поначалу мы работали молча. Дрова потрескивали, шипели и свистели. Видно, хворост влажный, коли печь так чадит. Пару раз я обжигалась о плиты и бормотала ругательства. Антуана делала вид, что не слышит, но, почти уверена, она улыбалась.
Мы испекли первую партию и приступили ко второй. На день монастырю нужно по меньшей мере три партии хлеба по двадцать пять белых буханок или тридцать черных в каждой. Еще сухари на зиму, когда растопкой не разживешься, да сдоба про запас и для особых случаев. От чада слезились глаза, но и сквозь него я чувствовала сильный аромат хлеба. В животе заурчало, и я вдруг поняла, что после исчезновения Флер толком не ела. Взмокли волосы, косынку хоть отжимай, лицо покрылось солеными каплями. Перед глазами вдруг поплыло, чтобы не упасть, я выставила вперед руку, но схватилась за горячую форму. Она уже остывала, но я обожгла нежную кожу между большим и указательным пальцами и вскрикнула от боли. Антуана снова взглянула на меня и сей раз точно улыбнулась.
— Сперва тяжело, а потом привыкаешь, — негромко, для меня одной проговорила она. Молодые послушницы сидели у раскрытой двери, слишком далеко, чтобы разобрать ее слова. Губы у Антуаны ярко-красные, пухлые для монахини, в глазах отблески пламени. — Со временем ко всему привыкаешь.
Я молча потрясла обожженной рукой.
— Не дай Бог твоя тайна откроется, — не унималась Антуана. — Тогда работать тебе в пекарне до старости. Так же, как и мне.
— Какая тайна?
Антуана хищно оскалилась, и я удивилась, что считала ее апатичной пустышкой. Заплывшие жиром глазки светились дьявольским умом, и на миг я даже ее испугалась.
— Твои встречи с Флер, какая же еще? По-твоему, я ничего не заметила? — Теперь, помимо злорадства, в ее голосе звучала горечь. — «У толстухи Антуаны куриные мозги», — так ведь все думают? «Толстухе Антуане только бы пузо набить!» У меня тоже был ребенок, но оставить его не позволили. Почему тебе можно? Чем ты лучше других? — Антуана заговорила еще тише, алые отблески пламени так и плясали в ее глазах. — Конец тебе, если мать Изабелла прознает, и отец Сен-Аман не поможет. Не видать тебе Флер как своих ушей!

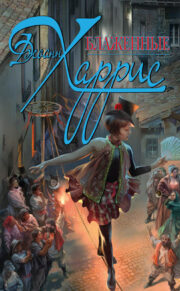
"Блаженные" отзывы
Отзывы читателей о книге "Блаженные". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Блаженные" друзьям в соцсетях.