— Сегодня праздник Богоматери, которая взирает на нас злым силам вопреки. Праздник Девы Марии, которая утешает нас в это смутное время, которая чище груди голубки и лепестка белой лилии! — Чудесные слова, Лемерль! — День Богоматери, сострадание и прощение которой не знают границ.
А-аххх! Недаром для соблазнения безмозглых девственниц используется язык любви. Лексикон проповедника напоминает лексикон героя-любовника не меньше, чем интереснейшие главы Библии отражают беспутство древних. Сейчас я обыгрывал это сходство знакомыми им словами — сулил непостижимое смертному наслаждение и бесконечный экстаз в объятиях Божьих. Земные страдания ничтожны, вещал я, по сравнению с восторгами грядущего, с райскими плодами — у Антуаны слюнки потекли — и радостями бесконечного служения в Доме Божием.
Начало многообещающее — сестра Томазина нервно ухмылялась, стоящая рядом с ней Маргарита безостановочно дергалась. Отлично!
— Но сегодня не только день счастливого празднования, но и час великой битвы. Сегодня последнее наше сражение со злом, которое терзало нас и продолжает терзать.
А-аххх! Вырванные из сладких грез сестры задергались, затоптались на месте, как нервные кобылы.
— Не сомневаюсь, что сегодня мы одолеем силы зла, но, если случится наихудшее, если нашу веру ждет еще одно испытание на прочность, будьте мужественны. Истинно верующие и отважные всегда найдут выход.
В глазах Изабеллы решимость и упрямство. «Святой я стану или мученицей, но тебе не покорюсь, — говорили эти глаза. — Сей раз ты мне не помешаешь. Анжелика Сен-Эврё Дезире Арно всегда добивается своего».
Вдали застучали копыта. Я знал: враг мой близко. Что же, очень вовремя. Хороший артист должен дружить со временем, чтобы привести комедию или трагедию к желаемому финалу. Сделай время врагом, и конец нагнетаемому напряжению, драматизму, кульминации. По моим подсчетам, до торжественного появления Арно минут восемь-десять. Как раз успею встретить Его Преосвященство во всеоружии.
— Мужайтесь, дети мои! Диаволу известно, что мы его ждем. Мы уже видели его и сейчас, спаянные верой нашей, готовы дать ему бой. У диавола тысяча обличий — приглядное и уродливое, мужское и женское, способен он обернуться и дитятей, и чудовищем, и родичем вашим, и владыкой, даже епископом и королем. Скоро вы увидите его, дети мои, лукавый приближается, слышу поступь адских коней его, несущихся к обители нашей. Мы здесь, сатана, покажись!
Сольные выступления, хоть при дворе, хоть в провинции, редко завораживают публику. Сестры же взирали на меня так, словно решалась их судьба. Пламя жаровен — чем не адов огонь? — бросало отблески на мое лицо, по крыше барабанил спасительный дождь. После многодневной засухи он вызывал детский восторг. Одна за другой сестры воздели глаза к потолку, ноги их задвигались по воле своей, а моя dea ex machine[47] приготовилась выйти на сцену…
Я укрылась высоко в колокольне, неподалеку от колокола, что на металлической крестовине висит в самой узкой части шпица. Место опасное, заберешься туда лишь по грубым подмостям мастеров, которые чинили крышу, но с другой точки ничего бы не вышло. Да и Эйле высоты не боится. Впрочем, уверенности не было, а выступать предстояло без репетиции и права на ошибку.
Кортеж епископа в полумиле от ворот, а я его уже видела, уже слышала храп коней верховых, скрип каретных колес под дождем. Сколько сопровождающих! Кортеж приблизился, и я разглядела, что хоругви две, значит, епископ привез другого сановника, возможно, выше его, дабы разделить триумф племянницы. Я взглянула вниз: Перетта юркнула в тень с проворством, так пригодившимся в бытность Нечестивой Монахиней. Только бы она не забыла мои указания! Глаза у нее светятся умом, но стоит ей отвлечься — на чаек за окном, на мычание коров на болоте, на яркий блик витража на каменной плите, — все пойдет прахом.
Вокруг меня полумрак — день пасмурный, сквозь прорехи в крыше сочится тусклый свет, внизу пламя свечей тает под чадом от жаровен — точь-в-точь светляки во мраке. Моя ряса цвета дыма, капюшон надвинут на глаза, чтобы снизу ненароком лицо не заметили. Я трижды обмотала вокруг пояса веревку — надеюсь, она достаточно прочная — со свинцовым грузилом на конце. Казалось, только шелест моего дыхания нарушает тишину — Лемерль начал свой спектакль.
Играл он божественно и сам это знал. Из своего «гнезда» я не видела его лица, но по голосу чувствовала: Черный Дрозд собой упивается. Акустика часовни ему помогает — каждое слово прекрасно слышно даже в конце зала. Декорации на местах — жаровни, свечи, цветы, обещание рая или ада. «С умом расставленная бутафория творит чудеса», — поучал он меня в наши лучшие парижские времена. Мол, лилия в волосах или перламутровые четки сделают чистой и невинной даже беспутную шлюху, а массивные ножны на поясе отпугнут бандитов, даже если меча внутри нет. Люди видят то, что хотят. Поэтому Лемерль так удачлив в картах, поэтому сестры не узнали Нечестивую Монахиню. Игра и отвлекающие маневры — вот его стиль. Я видела тюки соломы, разложенные по залу, чувствовала запах масла, которым он их пропитал, а сестры в блаженном неведении ощущали только аромат ладана и видели спектакль, в который их мастерски вовлекали.
Но я… я со своей выгодной позиции видела все. От Джордано я кое-что знала про запальные устройства, остальное легко угадывалось. Хватит одной искры, умело пушенной, допустим, с кафедры, и разгорится пламя. Так ведь говорила Антуана?
«Осторожнее! — велела себе я. — Главное — правильно выбрать время». Я ведь знаю Лемерля и, очень надеюсь, поняла его замысел. К делу он перейдет, лишь когда полностью раскроет карты — шанс позлорадствовать Лемерль не упустит. Тщеславие — его слабость. Он прежде всего лицедей, без публики жить не может. Это, как я искренне верила, его и погубит. Я стала ждать, кусая губы, и тут по часовне покатился ропот — наконец появился епископ.
Вот он, по первому зову явился. Эх, музыку бы сейчас! Музыка усиливает эмоции, оживляет самый унылый спектакль. Моему спектаклю унылость не грозит, но немного латыни не помешает, да и пусть Арно спокойно войдет. Итак, псалом тридцатый. Я подал знак, и сестры тяжело поднялись.
In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum: in justitia Tua libera me[48]. Заслышав латынь, Маргарита вздрогнула, а Клемента наклонила голову и осклабилась еще шире. Inclina ad me aurem Tuam, accelera ut eruas me[49]. Конечно, блестящим знанием латыни Клемента не отличалась никогда. Возможно, древний язык напоминал ей о наших ночных встречах, тем более воспоминания эти поочередно оживлялись Жюльеттиным зельем и моей хитро спрятанной иглой. Как бы то ни было, она закачалась из стороны в сторону, все быстрее, по мере того как я декламировал псалом. Раскачивание передалось Томазине, которая стояла позади Клементы, — та неуклюже переминалась с ноги на ногу. Esto mihi in Deum protectorem, et in domum refugu: ut salvum me facias[50].
Следующей жертвой стала Виржини — запрокинув голову, она по-идиотски пристально смотрела в потолок. Имя Божие заставило ее взвизгнуть и стиснуть свою грудь. Пьета захихикала. С довольной улыбкой я ждал неминуемой развязки, а Арно и его сопровождающие приближались к главному входу часовни.
Густой, мускусно-распаляющий аромат ладана — надеюсь, для самодовольного педанта Арно он чересчур силен — смешивался с запахом женской плоти. Что же, хоть одно я изменил: теперь эти поганки потеют — еще как! — и пот их воняет страхами и желаниями. Я открыл в них тайный шлюз, ну, или запертый сад (Соломон по сей день меня вдохновляет!), полный жажды мирских удовольствий. Надеюсь, Арно учует этот запах, особенно резкий на его драгоценной племяннице, гордости семьи. Надеюсь, Арно им подавится.
Вот и он! Очень вовремя. От сильной вони Его Преосвященство сморщился, тонкие ноздри затрепетали. Он поднял надушенный платок к лицу, будто хотел надеть маску доброжелательности. По моей команде (она же сигнал Перетте) хор вдохновенно, пусть и не слишком дружно, затянул десятый псалом, In Domino confido[51]. Улыбка мгновенно вернулась на уста монсеньора, заученная, как и моя, но не такая естественная. За текстом псалма слышались мне иные голоса, ропот демонов, которых я пробудил в сестрах.
Я отступил на шаг. Густая тень и дым жаровен частично скрыли мое лицо. Так или иначе, Арно не узнал меня — вместе с архиепископом он прошел в глубь часовни, явно недовольный встречей, хотя псалом оборвать не посмел. Он смущенно глянул на архиепископа, лицо которого источало неодобрение.
Сестры заволновались. Их робкие, едва заметные движения напоминали трепет сухой листвы на ветерке. Я позаботился, чтобы Томазина, Виржини, Маргарита и еще несколько особо чувствительных оказались в первых рядах. Сейчас они блестящими от безотчетного страха глазами смотрели на гостей, которые медленно пробирались сквозь толпу к алтарю.
Одно мое слово, и ловушка захлопнется.
— Добро пожаловать!
Началось. Одна запрокинутая голова, еще одна… Сперва я подумала, что меня обнаружили, но глаза сестер не выражали ничего. Вот еще одна сестра запрокинула голову, взмахнула руками во внезапном экстазе, и по часовне, от монахини к монахине, покатились невидимые волны. Пение оборвалось, сменившись криками, мольбой, наговорами, бранью. В сравнении с «Балетом бернардинок», на котором я присутствовала, это зрелище было много отвратительнее. Перед епископом разверзся ад, демонстрируя новые и новые грани, — сестры скакали по залу, падали на колени, с вопиющим бесстыдством задирали юбки… Еще пара секунд, и сестер будет не унять. Они молотили руками, поднимали головы, чтобы через мгновенье снова утонуть в море отчаянных криков, рвали и скидывали одежду. Виржини, любительница задавать тон, дико закружилась на месте, подол так и взлетал.
Епископ оторопел. Увиденное столь расходилось с ожидаемым, что он, потрясенный до глубины души, пытался разглядеть в галдеже и хаосе блистательное зрелище, на которое рассчитывал. Изабелла наблюдала за ним со своего места у жаровни. Отблески пламени делали ее личико алым. Она не спешила навстречу дяде, лишь кулачки сжала. На моих глазах Изабелла безвольно разинула рот: крики усилились, и вперед выступил Лемерль.
— Добро пожаловать!
Как не насладиться таким моментом?! Только представьте: величайший отпрыск рода Арно, по флангам монашки, полуголые и дико ухмыляющиеся; адский цирк визжит, воет, рычит вокруг него, как в дешевом непристойнейшем спектаклишке.
На миг я испугался, что монсеньор меня не узнал. Но нет, Арно онемел от ярости, а не от замешательства. Гнев раздул его, как ту лягушку из басни, поэтому, когда дар речи вернулся, голос Арно напоминал нелепое кваканье:
— Ты? Ты здесь?
Арно и сейчас до конца не понял. Быть не может, что этот… тип — отец Коломбин Сен-Аман, с которым он вел переписку. Этот самозванец ухитрился занять место достойного священнослужителя, а монахини, монахини… Они признают его, тянутся к нему, молят, взывают. Даже Изабелла — бедная девочка совсем истаяла, на лице отпечаток болезней и тревог, — даже она смотрит на него как на спасителя, на бледных щечках дорожки слез, ручка тянется к чему-то спрятанному за кафедрой…
Аж мозги ему отшибло от глупого неверия. Я этого не потерплю! Первый сигнал — Изабелле, чтобы не дергалась, второй — Перетте, чтобы заняла свое место.
Арно хлопал глазами, словно один из нас повредился умом.
— Ты здесь… Как ты смеешь? Как смеешь?
— Я смею поступать, как мне вздумается. Вы сами так сказали на одной из наших встреч. — Я повернулся к сестрам, которые уже оправились от наваждения и смотрели на нас разинув рот. — Предупреждал я вас, что за светлым ликом порой скрывается черная душа? Стоящий пред вами не тот, кем кажется.
Сестры ринулись вперед, я остановил их мановением руки, но ливрейную охрану и господ уже разделили. Я с удовлетворением отметил, что архиепископ, даже отрезанный от остальных, все видел и слышал: меж ним и сестрами стоял лишь Арно.
Не верьте, что мстить не стоит. Чем дольше ждешь, тем слаще месть. Я чувствовал страх Арно, пока несильный, ведь Его Преосвященство еще думал, что попал в сказку. Ничего, дело поправимое. Сестры снова забеспокоились. Еще немного, и их тревожный ропот станет штормовой волною. Я снял с шеи крест, висевший на кожаном ремешке, и положил, якобы небрежно, на край кафедры. Ждем финала!
Наверное, в этот момент должна была появиться Перетта. Голоса внизу стихли, в спектакле возникла небольшая пауза, которую почувствовала одна я. Лемерль прекрасно все рассчитал — пауза, затем последний и самый эффектный выход Нечестивой Монахини. В отличие от меня, Лемерль поставил не только на Перетту, он не отдал ей главную роль, а сделал дополнительным украшением, драматическим изыском, которым вполне можно пожертвовать. Он огорчится, если Перетта подведет, но, надеюсь, ее отсутствие особых подозрений не вызовет. Лемерль считал, что ветреная Перетта ненадежна, я же собиралась рискнуть жизнью, уповая на то, что он не прав.

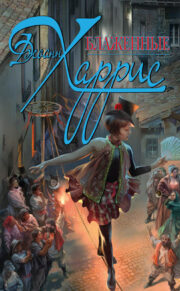
"Блаженные" отзывы
Отзывы читателей о книге "Блаженные". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Блаженные" друзьям в соцсетях.