– Так я и думал, но решил, что лучше спросить. – Я ждал, чувствуя, что у него есть что-то еще. Он положил руку на дроссель, поддал газу, послушал, как завелся мотор, а потом вернулся на холостой ход и кивнул. – Тогда, надо думать, тебе не интересно, что все три предлагали заплатить за одну только возможность оценить твои сегодняшние возможности. Похоже, тюремное видео пошло в ход.
Я заглушил мотор.
– Вуд, я больше не играю.
– Может, и так, но парочка новостных радиостанций разносит заявление представителя лиги о том, что он планирует поработать с властями и получить для тебя разрешение на поездки, а потом, если понадобится, восстановить тебя в лиге. Мол, учитывая тот факт, что ты свой срок отбыл, он готов помочь тебе обойти наложенные ограничения.
Я показал на свою ногу.
– А с этим он что собирается делать?
– Я разговаривал сегодня утром с юристом НФЛ. Их команда изучила юридические требования и считает, что они смогут договориться с властями на местах, где ты будешь играть, поскольку наложенные на тебя ограничения имеют местный характер и регулируются законами штата. Ты уже исполнил федеральный закон, зарегистрировавшись по месту жительства, и поскольку жить на стадионах не будешь, а будешь там только играть, твои шансы, по их мнению, весьма высоки. Еще он сказал, что лига готова обеспечить безопасность болельщиков через предоставление полицейского эскорта, который будет рядом с тобой при посадке на самолет, в раздевалке, во время интервью или при выезде из дома. Это будет полная круглосуточная защита.
– Звучит до боли знакомо.
По всей видимости, Вуд подготовился как следует.
– Лига считает, что закон будет смотреть на тебя во многом так же, как смотрит на дальнобойщика, чье рабочее место – дороги и трассы по всей стране. Или, возможно, как на мелкого предпринимателя, выполняющего работу в домах других людей. Дальнобойщикам, мелким предпринимателям и другим разрешается работать, где они хотят, лишь бы они сообщали, в каком месте они будут, и предоставляли другую возможную в каждом конкретном случае информацию. К примеру, дорожные маршруты или те места, где они будут работать. В нашем случае это стадионы и тренировочные поля.
– А отели, где мы будем останавливаться перед играми?
– Закон гласит, что ты должен предоставлять информацию о своем местонахождении, если отсутствуешь по месту регистрации семь или больше дней. Лига обещает позаботиться, чтобы ты не задерживался нигде дольше чем на семь дней. Но если вдруг такое случится, например, во время игр плей-офф или еще чего, они решат вопрос с властями и обеспечат тебе временную регистрацию. Даже, если потребуется, доставят домой на самолете.
Я прислонился к фургону.
– Давай представим, просто представим, что они преодолеют юридические трудности. А как быть с ненавистью болельщиков к тому субъекту, осужденному за изнасилование несовершеннолетних? К тому извращенцу, который заснял все это на видео для последующего просмотра? Да, и не будем забывать про наркотики, которыми он напичкал их, чтобы те не сопротивлялись. На этот счет представитель лиги ничего не сказал?
– Нет. – Вуд поддел носком камешек. – Вообще-то мы об этом не говорили.
– Дай мне знать, когда скажет. – Рей слушал наш разговор с горячим интересом. – Послушайте, ребята, даже если я попытаюсь и даже если каким-то чудом попаду в какую-нибудь команду как, вероятно, самый старший в списке игроков, все женщины на стадионе и у экранов телевизоров будут ненавидеть меня лютой ненавистью, бойкотировать игры, подписывать петиции с требованием запретить мне играть.
Вуд еще не закончил.
– ESPN, CNN, «Фокс» – все проводили опрос. Тридцать семь процентов опрошенных сказали, что ты уже понес заслуженное наказание. Они говорят: «Пусть играет». Пятьдесят три процента готовы позволить тебе вернуться в лигу, если ты учредишь какой-нибудь фонд для подвергшихся жестокому обращению и насилию женщин и станешь защитником интересов детей – жертв сексуальных преступлений. То есть ты как-то должен показать, что усвоил урок.
– И что же это за урок?
– Что ты раскаиваешься, сожалеешь о своем преступлении, причем глубоко. Глубоко и искренне.
– А сколько процентов хотят получить мою голову на блюде?
Вуд помолчал.
– Я просто перечисляю твои возможности.
– Если позвонят еще, у меня в настоящее время нет профессионального представительства. И искать его я не намерен. – Вуд заметно приуныл. – Но высока вероятность того, что мне все еще будет нужен адвокат.
Вуд почесал голову.
– Не уверен, что я тебе подойду. В последнее время юридической работы было мало. Так, иногда, по мелочи – развод, составление завещания или продажа дома.
– А спортсменов не представлял?
Вуд пожал плечами.
– Мне надо, чтобы ты был моим адвокатом, прежде чем я попрошу тебя поговорить с командой.
Вуд нахмурился.
– Не собираешься посвятить меня в свои планы?
– На другой стороне этого холма живет девушка. Она прячется в монастырском саду, занимается с детьми, потому что стыдится своего прошлого.
Вуд повернулся к Рею.
– Ты знал?
Рей раскурил свою трубку.
Вуд покачал головой.
– Я думал, мы друзья. – Устремив взгляд через лобовое стекло, мужчина проворчал себе под нос: – И что я ей плохого сделал?
– Ты был его другом, – ответил Рей сквозь легкое облачко дыма.
Вуд согласно пожал плечами.
– Ну да, само собой.
В ту ночь, точнее, утро, когда меня арестовали, я проснулся на разминку в три часа, как обычно, оделся и вошел в лифт, направляясь в фитнес-центр в вестибюле. Это последнее, что я помню. Последующие двадцать четыре часа выпали из памяти. Помню только, что проснулся в гостиничном номере, который не был моим, в окружении трех женщин. Одри среди них не было. Говоря по правде, я не помню, как просыпался, одевался, как шел к лифту, и знаю все только потому, что обвинение излагало это в суде во время моего процесса. Последнее воспоминание прерывалось где-то за час до этого, когда я был с Одри.
– По всей видимости, она доверяет тебе не больше, чем мне.
Вуд ткнул Рея в плечо.
– Зато ему доверяет.
Я пожал плечами.
– Очевидно.
Вуд все никак не мог поверить, что я нашел ее.
– Как она?
– Окружена двенадцатифутовой стеной, но эти двенадцать футов – ерунда в сравнении со стеной вокруг ее сердца. Когда я приближаюсь к ней, у нее по коже мурашки бегут. Я надеялся, что, может, когда я выйду, все будет по-другому, что время излечило. – Я покачал головой. – Не излечило: мое присутствие для нее мука. Не знаю, как содрать корку, что наросла за двенадцать лет. Единственная связь между нами – этот парнишка, Далтон Роджерс. Одри хочет, чтобы я помог.
Вуд кивнул.
– Всегда есть Канада…
– Данвуди, это игра. Она – нет. Оставь.
– Значит, ты и вправду завязал? То есть окончательно и бесповоротно? И все эти дела в тюрьме, разминки и броски ничего не значили и играть ты уже не будешь?
Я помолчал.
– Помнишь последнюю встречу в Нью-Йорке накануне драфта, когда передо мной раскатывали красную дорожку, обещая весь мир?
Он кивнул.
– И что я тебе сказал, когда они ушли?
Вуд отвел глаза.
– Ну же, давай, скажи.
– Ты сказал, – медленно заговорил Вуд, – что, сколько себя помнишь, всегда держал в руках футбольный мяч. Это твои линзы – забери у тебя мяч, и ты станешь слепым, как новорожденный котенок.
– Но… – подсказал я.
– Но в сравнении с Одри, – он покачал головой, – это ничто.
– И?
– И если тебе когда-нибудь придется выбирать, она победит.
– И сейчас я выбираю. Одри не доверяет мне, не верит в меня. Единственный способ для меня достучаться до ее сердца – это отказаться от того, что, как она знает, я люблю. Завязать.
– Чушь какая-то.
– Вуд, все, включая тебя, считают, что я их предал. И в первую очередь Одри. Ты хочешь, чтобы я преодолел это, двигался дальше, ставил новые рекорды, но Одри сломлена, и ей плевать на рекорды. Я люблю игру. Люблю так же, как и всегда, но если я сейчас выберу игру, то потеряю ее навсегда. Мне надо показать Одри, что я люблю ее больше, чем футбол.
– Но это твой шанс. Ты не молодеешь – положение рискованное. Кроме того, чем, скажи на милость, ты собираешься зарабатывать на жизнь? С девяти до шести – это не для тебя.
Я поднял руку.
– Я не собираюсь больше играть.
Разочарованный, он опустил голову.
– Наверно, я думал, что вот ты отсидишь свой срок, выйдешь и рванешь. Начнешь оттуда, где остановился. Многие так делали. – Он предпринял еще одну отчаянную попытку задеть мое самолюбие: – Ракета бы так сделал.
Я вытер руки о тряпку.
– Вуд, тюрьма убила Ракету. Он мертв и похоронен под тюремным блоком «Д».
Мы помолчали несколько минут. Наконец он заговорил:
– Не уверен, что хочу знать ответ, но что там за история с тобой и этим Далтоном Роджерсом? Ты сказал, Одри хочет, чтобы ты помог ему, но для тебя приближаться к ребенку ближе чем на пятьдесят футов – нарушение закона.
– Я согласился тренировать его, помочь стать лучше.
– Не мне говорить тебе, что это очень плохая затея.
– Знаю, потому-то ты мне и нужен.
– И тебе все равно?
– Я этого не сказал.
– Но ты все-таки тренируешь его.
– Да.
– Почему?
– Единственный путь к сердцу моей жены – через руку этого парнишки.
– Даже если эта рука передаст тебя тюремным властям.
– Даже если так.
Вуд шумно выдохнул, словно держался с тех пор, как меня выпустили из тюрьмы.
– Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.
– Никогда не говорил, что знаю. Просто делаю, и все.
– Да, и это тоже.
Глава 16
Поддерживаемый общественностью, которой надоели спортсмены-знаменитости, ставящие себя выше закона, суд надо мной был коротким, быстрым и показательным. Обвинителем выступил сам прокурор штата Джорджия Рон Эйбл, рассчитывавший использовать процесс и свою победу в нем для построения будущей политической карьеры. Обвинение будет действовать решительно, пообещал он.
Так и получилось.
Учитывая сенсационный характер обвинений и свидетельств, мое полное и категоричное, но довольно неубедительное отрицание – «Я этого не делал. Ничего этого» – было подано бульварной прессой как «НЕУКЛЮЖАЯ ОТГОВОРКА РАКЕТЫ». Скандал разгорался; ход процесса и вынесение приговора освещали более пятидесяти телекамер. В течение трех недель у меня, можно сказать, был свой канал. В начале процесса мне предложили заключить публичную сделку, но я, к великой радости Эйбла, отказался, потребовав суда присяжных.
И я его получил.
Судьей был назначен Д. С. Гейнер, человек с сорокалетним стажем, любовью к истории и глубоким пониманием ее событий. Жюри присяжных состояло из пяти мужчин и семи женщин. Мама заложила дом, чтобы заплатить за мою защиту. Стефани Уолш, весьма уважаемый адвокат, выпускница Гарварда, имеющая за плечами десятилетний опыт успешной защиты профессиональных спортсменов, взялась за мое дело. Примерно двадцать два часа мы думали, что у моей защиты есть хорошие шансы, и я старался ободрить Одри. А потом обвинение представило доказательства.
Штат предъявил мне обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, непристойном и развратном поведении, непристойном и развратном поведении в отношении несовершеннолетних, хранении наркотиков с целью их распространения и намерении записать таковое поведение на видео.
После просмотра видео моя команда и поручители тут же «слили» меня. Одри перестала приходить на свидания и не отвечала на звонки, а судья Гейнер отказал в освобождении под залог. Суд надо мной начался через восемь месяцев. В течение всего этого времени меня не навещал никто, кроме матери, адвоката, Рея и Вуда.
Процесс освещался всеми крупными новостными сетями и длился восемь дней. Я наблюдал за всем в состоянии оцепенения, не веря, что это происходит со мной. Джинджер была последней вызванной обвинением свидетельницей. После ее рассказа, вбившего последние гвозди в мой гроб, Стефани сделала попытку провести короткий перекрестный допрос, который ни к чему не привел и которым Джинджер, похоже, наслаждалась и управляла. Говоря по правде, она разбила Стефани наголову и при этом самодовольно поглядывала на меня. «У меня больше нет вопросов, ваша честь», – только и сказала мой адвокат и села зализывать раны. Судья Гейнер объявил перерыв, за которым последовали закрытые прения на следующий день. Когда обе стороны закончили выступления, судья проинструктировал жюри присяжных и отправил их на совещание.
Пока мы ждали вердикта, судья поручил секретарю напомнить мне, что на столе лежит признание, которое мне нужно только подписать. Он тоже видел письмена на стене и, послав секретаря, хотел сказать мне, что конец близок.

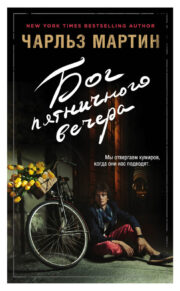
"Бог пятничного вечера" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бог пятничного вечера". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бог пятничного вечера" друзьям в соцсетях.