«У нее, должно быть, бесчисленно поклонников… и будет еще более, когда мы расстанемся», — подумал де Мон с невольной грустью. План его состоял в следующем: он сообщит маркизе, что сам готов быть тем курьером, который отправится в Англию. Однако, якобы страшась за жизнь жены и будущего ребенка, потребует, чтобы Ангелина отправилась с ним — и в Лондоне передаст ее с рук на руки барону Корфу; затем в Англии совершится тихий развод, и Ангелина, судя по всему, немедленно сочетается браком с этим молодым и безмерно обаятельным (де Мон был достаточно мудр, чтобы понимать и признавать это свойство в Оливье!) мерзавцем, которого она любила и который, без сомнения, и являлся отцом ее ребенка. Однако, где и с кем бы она ни была, де Мон позаботится, чтобы Оливье зависел от ее благорасположения, а не она — от его: состояние де ла Фонтейнов останется в ее руках. А сам он вернется в Париж и заживет себе, как жил прежде, en garbon [106], словно и не было никогда в его жизни этого странного и спешного брака. Поздно, всегда поздно! Однажды де Мон опоздал умереть, чтобы соединиться на небесах с той, которую истинно любил. Теперь, спустя четверть века, он вновь полюбил… и тоже слишком поздно. Как говорили древние, если ты прошел мимо розы, то не ищи ее более: или она отцвела, или ее сорвал кто-то другой!
С усилием отмахнувшись от таких невеселых мыслей, де Мон направил свои размышления в деловое русло. Надо полагать, вряд ли в Кале охотно переправят в Англию курьера роялистов, у которой сейчас нет даже дипломатических отношений с наполеоновским Парижем. Будь де Мон один, он с удовольствием тряхнул бы стариной и отправился на лодке контрабандистов, однако Ангелина… Опасности на море ей претерпеть придется, иного пути в Англию нет, но де Мон должен их свести до минимума! И в этом ему обязана помочь опять-таки маркиза, у которой имелись связи везде, даже среди самых отчаянных бонапартистов в доме Жозефины. Он откроет маркизе, кто такая Ангелина. Та, как всякая женщина, обожает драматические эффекты и непременно захочет принять участие в судьбе дочери русского дипломата…
Ангелине порою казалось, что ее жизнь после бегства из родного дома — всего лишь сон, где кошмары перемежаются дивными, сладостными картинами или просто спокойными, приятными сновидениями, которые давали отдохнуть измученной душе. Теперь ей снилось нечто как раз такое. Это был Париж — город, к которому название «сновидение» подходит как нельзя лучше. Что за роскошь, что за рай!.. У нее не хватало слов выразить свой восторг. Впрочем, правду говорят, что Париж — Вселенная, так возможно ли описать Вселенную?!
Дом нотариуса на бульваре Монмартр, новый, с ажурными балконами и нависшей мансардой, также был очарователен. К дому прилегал огромный сад, в котором все было так подстрижено и размечено, словно не только дела свои, но и всю природу нотариус желал подчинить римскому праву и действующему законодательству. Впрочем, и в одежде муж Ангелины был большой педант, а уж в молодости… Теперь, когда между ним и Ангелиною установились совсем другие отношения, более поминавшие отеческие и дочерние, де Мон повеселел, сделался доверчивее и порою даже рассказывал о своем прошлом: например, один раз он проигрался в пух только потому, что вдруг заметил, что по рассеянности надел два перстня с не подходящими друг к другу камнями. Тот проигрыш едва его не разорил, ведь свое состояние он составил за картами: имея в былые времена высокую, но скудную должность, взяток не принимал, однако охотно позволял нуждающимся в протекции проигрывать за зеленым сукном.
Как это ни странно звучит, старый муж нравился Ангелине все больше, она даже с сожалением думала о том времени, когда им не миновать будет расставаться. Де Мон не жалел оставить дела, чтобы погулять с Ангелиной по Парижу. Хоть и уверял нотариус, что Ангелина опоздала на четверть века приехать в Париж — при последнем короле все было несравнимо лучше, и вместе с теми счастливыми временами исчезли, разрушенные обезумевшей чернью, и многие красоты великого города, — она не верила, что может быть лучше. Если революция и разрушала, то Наполеон, придерживаясь того мнения, что Париж — сердце Франции, за пульсом которого должно следить все государство, старался создать достойную столицу своей всемирной империи. Это признавал и де Мон. Все, что Бонапарт захватывал во время своих победных походов, было отправляемо им в Париж. Возводились новые роскошные здания; расширялись набережные Сены; закладывались новые гавани, сооружался наисовременнейший водопровод; обустраивались базарные площади. Площадь Карусели обнесли стенами, а против Лувра протянулась новая галерея. На Вандомской же площади триумфальная колонна должна была напоминать последующим поколениям о деяниях Наполеона и его великой армии. Основана была Биржа; церкви и капеллы, частью разрушенные, частью получившие другое назначение в эпоху революции, были восстановлены и украшены. Начата была триумфальная арка d'Etoile, построены мосты Аустерлицкий, Иенский и Pont des Aris [107]…
Неподалеку от дома нотариуса, на холме Шайо, стояла старая, как мир, и столь же неразрушимая церковь Сен-Дени; и оттуда открывался огромный, то сияющий под солнцем, то затянутый голубоватой дымкой Париж: бесконечный ряд зданий, над которыми господствовали белые, призрачные башни собора Нотр-Дам и золотой купол Дома Инвалидов. Ангелина полюбила это место за красоту; вдобавок де Мон рассказал ей историю святого Дени, которому враги отрубили голову, но он все-таки поднялся и, держа ее в руках, дошел до Парижа, предупредив своим явлением о страшной опасности, и поэтому там, где потом рухнуло наземь его обезглавленное тело, была позднее воздвигнута церковь.
Де Мон, конечно, не мог знать, почему вдруг разрыдалась Ангелина, услышав эту историю; однако в нем сохранилось достаточно душевной деликатности, чтобы не мешать ей прильнуть лицом к серым, замшелым камням, из которых сложены были стены старинной церкви, и поливать их горючими слезами.
Облегчив тяжесть воспоминаний потоком слез, Ангелина, все еще всхлипывая, оглянулась. Глаза ее заплыли, и она не сразу увидела мужа, который сидел на самом краю холма, прямо на траве, держа в руках кулечек жареных каштанов. Он их чистил, но не ел, а разламывал на маленькие кусочки и кормил воробьев, которые целыми стаями кружили вокруг, подбирали крошки с травы, а иные, мелко трепеща крылышками, вдруг бесстрашно садились на протянутую руку старого нотариуса, клевали с ладони, ходили по его рукаву и даже заглядывали в лицо, отважно поблескивая черными бусинками глаз.
Ангелина стояла, боясь дышать. Было что-то завораживающее в этом зрелище — в раскинувшемся вокруг холма Париже, над которым сгущался серо-голубой, туманный вечер… и сидевшем перед ней старом человеке, который ласково поглядывал на птиц своими мудрыми, усталыми глазами, и воздух вокруг него дрожал и пел от трепета птичьих крыл и разноголосого гомона.
Ангелина тихонько подошла, и к горлу ее подкатил комок, когда глаза де Мона взглянули на нее с той же нежностью, с какой глядели на птиц. Она взяла один каштан с жаровни продавца-мальчишки, который смотрел на эти чудеса, разинув рот, раскрошила каштан на ладони и застыла, вытянув руку. Она долго стояла так, но ни одна птица даже не посмотрела в ее сторону, хотя на ее ладони лежали те же крошки, что и у де Мона, над которыми они дрались, отвоевывая друг у друга право поесть из его рук.
С досады Ангелина сама съела жареный каштан. В первую минуту его сладковатый, мучнистый вкус показался ей замечательным, но вскоре она подумала, что печеная картошка непредставимо вкуснее. Украдкой выплюнув каштан, она снова поглядела на Париж. Очертания домов расплылись, только серебристая лента Сены еще сверкала. Широкая и привольная, она сливалась из двух могучих рек — Волги и Оки; и в небе плыли закатные тучи, и зубчатый, горделивый кремль венчал высокий берег, подобно короне…
Ангелина вскрикнула, покачнулась… и де Мон успел схватить ее за руку в то мгновение, когда она едва не скатилась кубарем с высоченного, крутого холма. Воробьи разлетелись прочь, возмущенно вереща.
— Я хочу домой! — прошептала Ангелина.
И нотариус кивнул:
— Что ж, идемте!
Она покачала головой, не в силах говорить, боясь, что снова прорвутся слезы. Нет, не в дом на бульваре Монмартр хотела она вернуться. Зачем ей этот дом, зачем ей Париж — чужой и прекрасный? Она хотела домой, домой… и старый нотариус вдруг все понял, сказал, успокаивая:
— Мои дела улажены. Можем ехать хоть завтра.
Ангелина улыбнулась, утирая глаза. Потом взяла мужа под руку — и они пошли с холма по серым каменным ступеням, к которым льнули белые и лиловые крокусы и розовые примулы, а воробьи прощально кружили над ними.
Дорога показалась Ангелине ужасной. Эти 150 лье от Парижа до Кале измучили ее духовно и телесно. Невозмутимый, но скрытно взволнованный де Мон, как бы дремлющий в своем углу, а на самом деле не спускающий с нее не то жалостливого, не то брезгливого взгляда… И Оливье — раздраженный, желчный, отказывающийся понимать, почему, если уж нотариусу так срочно потребовалось ехать в Кале, он тащит с собою беременную женщину — и свободного, никому ничем не обязанного мужчину?! Именно из-за Оливье, который беспрестанно ворчал, брюзжал и жаловался, Ангелине и де Мону ни разу не удалось толком поговорить. Он по-прежнему ничего не знал о своей супруге, кроме того, что она — дочь Корфа. Ангелина чувствовала, что должна бы поведать ему о том пути, который привел ее во Францию, однако она по-прежнему не хотела, чтобы Оливье узнал о ней столь много. Да и не больно-то это ему было интересно, иначе он попытался бы все вызнать у Ангелины еще прежде.
Возможно, откройся она де Мону, из его глаз исчезла бы эта унижающая доброта… но ведь и он ни о чем ее не спрашивал! Ангелина, вконец измученная дорогой и беременностью, была уверена, что де Мону просто не терпится сбыть ее с рук.
Зрелище города Кале, окруженного болотами и песками, не улучшило ее самочувствия. Еще не видя округи, только услышав вой ветра и мерный плеск морских волн, Ангелина ощутила, что слезы близко, а уж когда вышла из кареты, ею овладело странное чувство, будто она приехала на край света: там необозримое море и конец земли. Слезы полились ручьем!
Впереди было счастье встречи с отцом и матерью — отчего же Ангелина не ощущала никакой радости, ничего, кроме отчаянной тоски?
Де Мон тотчас отправился в порт, почему-то не велев Ангелине и Оливье устраиваться в гостиницу. Они сидели прямо на траве, привалившись к задку кареты, не говоря между собой ни слова; лошади побрякивали удилами, выл ветер, и листья уныло шумели над головой.
— Проклятый стряпчий! — проворчал Оливье. — Думаешь, я не знаю, почему он не повез нас в гостиницу? Боится, что мы тотчас завалимся в постель! И ей-Богу, может, хоть этим займемся? Я чуть не помер со скуки в пути, да и здесь зевота челюсти сводит. Пошли, а? Я давно готов!
Он шаловливо откинул полу сюртука, и Ангелина увидела, что Оливье действительно готов. Однако она, к своему изумлению и радости, не ощутила в себе ни малейшего волнения. Поведение Оливье показалось ей неприличным.
— А бывало, помню… — пробурчал он, заметив выражение ее лица.
— Да, бывало, — невозмутимо кивнула она, — да все миновало.
— Гляди, какие мы стали! — прошипел Оливье. — Что делает богатство с людьми. Не больно-то заносись, знаешь ли… Тщеславие неприятно в мужчине, а в женщине — особенно.
— Уж соловей умолк, но слышу песнь его, — засмеялась Ангелина. — Узнаю песни тетушки Марго!
Оливье насупился:
— Ты так изменилась, Анжель! Ты стала совсем другой! Но ничего! Это все беременность, — заявил он с видом знатока. — Погоди, родишь — и сама себя не узнаешь! Готов держать пари, что мы еще не раз украсим голову твоего мужа ветвистыми, кустистыми, развесистыми рогами.
— Готова держать пари, что к тому времени, как я рожу, он не будет моим мужем, — усмехнулась Ангелина и с любопытством уставилась на Оливье, у которого вдруг как бы натянулось лицо; и голос его звучал, как у чужого, хитрого, пронырливого человека:
— Ну и куда ты его намерена девать? Или придумала, как от него избавиться, а денежки мои положить в карман?
Ангелину передернуло. В глазах ее вспыхнуло возмущение. Господи, да неужели и впрямь бог войны осенял Оливье своими крылами, давая ему благородство, отвагу, мужество, а без его благосклонности от Оливье остался только провинциальный, вульгарный буржуа?! Она всегда с величайшим почтением относилась к своей нации, не считая при этом другие народы хуже, но сейчас высокомерно подумала, что в русских вольных просторах дышавший русским воздухом Оливье как бы вобрал в себя непоколебимой русской силы и величия, а когда воля и ширь сменились теснотою и затхлостью каменных улочек, он и сам сделался таким же… затхлым. И, брезгливо сморщив нос, она ответила небрежно:

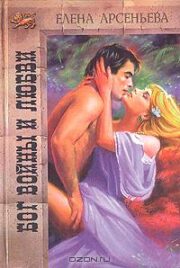
"Бог войны и любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бог войны и любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бог войны и любви" друзьям в соцсетях.