— Да, сэр, — с уважением отозвался я, думая о том, как странно было то, что эти слова, в устах моей матери звучавшие так скучно, прозвучали теперь исполненными такого грандиозного значения.
Он говорил мне, чтобы я воздерживался от неумеренной выпивки, и предупреждал о том, как коварная привычка к алкоголю выходит из-под контроля:
— …И когда за завтраком перед тобой стоит стакан с глотком джина, разведенного апельсиновым соком, не предлагай его никому, оставь все себе. Ты не можешь себе представить, как тяжело жить с этим. И тебе будет нелегко отделаться от этого постоянного напряжения… Скажи, а этот твой поразительный неудачник отчим говорил с тобой когда-нибудь о сексе?
— Нет, сэр.
— Тогда позволь мне сказать тебе следующее: не верь никому. Люди способны на все ради денег, абсолютно на все. Относись скептически к заверениям женщин в любви к тебе. Избегай гомосексуального общения — да, да, я знаю, что тебя интересуют только девушки, и не делай такого оскорбленного лица! Но такие красивые юноши, как ты, неизбежно привлекают внимание гомосексуалистов, и ты должен быть начеку и не допускать никаких оплошностей, которые могли бы привести к шантажу, скандалу и разорению. Всегда помни, что малейшая ошибка в твоей личной жизни может оказаться роковой и привести к катастрофическим последствиям. И независимо от того, насколько ты богат, никогда не забывай о том, что потакание своим эмоциям это такая роскошь, которой ты никогда не должен себе позволять. Может быть, тебе кто-нибудь рассказывал о том, в каком катастрофическом положении я оказался с моей первой женой, матерью Викки?
Он принялся рассказывать мне о своем прошлом. Говорил он долго, луна поднялась уже высоко в небе, и море сияло серебром в ее лучах между стволами сосен. Я скоро понял, что Пол раскрывался передо мной с такой мучительной откровенностью потому, что хотел, чтобы я учился на его ошибках и избежал своих, когда я продолжу его жизнь, из которой он когда-нибудь уйдет.
Я слушал и слушал. Порой он протягивал ко мне над столом руку и касался моей кисти, словно этим мог как-то смягчить рассказ об отмщении. Вдруг он остановился.
— Прости меня. Ты слишком молод, и так мало видел в своей жизни… Это, должно быть, слишком трудно для тебя. — Мои пальцы доверчиво сложились в его руке. Я был снова маленьким мальчиком, безоглядно верным и послушным, готовым идти за ним на край света. — Ну вот, наконец, — проговорил он, коротко пожав мою руку, прежде чем выпустить из своей, — мы дошли и до мисс Дайаны Слейд. — Его лицо было ярко освещено луной. Устремив на меня свои темные глаза, он, смеясь, воскликнул: — Ты и Дайана! Какое тщеславие!
И стал рассказывать о своей знаменитой лондонской любовнице.
То, что я услышал, мне не понравилось.
Он рассказывал все до мельчайших подробностей, не утаивая ничего ни от меня, ни от себя самого. Оглядываясь теперь на свои последние годы, я понимаю, что у меня никогда не хватило бы храбрости рассказывать такому неоперившемуся восемнадцатилетнему мальчику о брачных проблемах, так прекрасно разрешенных этой мисс Слейд. Он говорил даже о своей эпилепсии, и это далось ему труднее всего; я видел, как сжались его кулаки, а глаза на побледневшем лице пылали огнем.
— Вам не следовало говорить мне об этом, сэр, — выпалил я наконец.
— Нет, следовало, — мгновенно отозвался Пол. — Я должен рассказать тебе решительно все. Я должен пройти через это.
В конце концов я набрался смелости спросить Пола:
— Вы уверены в том, что не женитесь на мисс Слейд?
— Я не женюсь на ней, — мгновенно прозвучал его краткий ответ. — Ты удовлетворен? Почему ты не спрашиваешь, не намерен ли я признать ее сына?
Я сразу же понял, что он меня испытывал. И сделал бесстрастное лицо, но почувствовал, как кровь уже приливала к оболочке, в которой пряталась моя Ахиллесова пята.
— Может быть, вы думаете, что это не ваш сын, — учтиво отвечал я.
— Он мой. Что дальше?
Оболочка взорвалась. Я смотрел то на пол, то на потолок, то в окно, пытаясь придать своему лицу беспечный вид, а когда снова посмотрел на него, то увидел, что он все понимал. Более того, его это веселило.
— Вы уверены, что он ваш, сэр? — Он надолго задержал на мне свой взгляд. Глаза его сверкали, но были лишены всякого выражения. Нервы мои сдали. Я густо покраснел. — Простите меня… я не хотел… простите меня, сэр, я не хочу больше говорить об этом…
— Успокойся. Нет никакой необходимости ползать на четвереньках только потому, что ты высказал совершенно логичную мысль. Покончим с этим раз и навсегда. Этот ребенок мой. Я это знаю, и будет лучше, если ты согласишься с этим. Я не признаю его потому, что хочу защитить Сильвию и самого Элана от своих денег и от своего положения, совершенно так же, как твоя мать стремится защитить тебя. Если бы тебя не так ослепляла ревность, ты признал бы эти вполне очевидные причины.
— Я не ревную, сэр.
— Убеди меня в этом.
— Но в этом же просто нет необходимости, сэр, разве не так? Я ваш наследник, а он нет.
— Вот именно! — его суровость внезапно растворилась, словно он больше не мог ее сохранять, и, вставая, он ласково похлопал меня по плечу, как своего многообещавшего протеже. — Мне кажется, — сказал он, когда я тоже поднялся на ноги, — по поводу биологической связи болтают много чепухи. Лично я верю в усыновление.
Я кивнул. Я больше не мог смотреть на него и чувствовал, что и он больше на меня не смотрит. Засунув руки в карманы, он двинулся к двери.
— Тебе, разумеется, придется сменить фамилию на Ван Зэйл, — подумав, добавил Пол.
— Да, сэр.
— Пол Корнелиус Ван Зэйл.
— Да, сэр.
Пол улыбнулся. Он был удовлетворен.
— Присоединимся к остальным, — сказал он, открывая дверь. — Позже сможем продолжить разговор.
Меньше чем через неделю после того, как он был застрелен в своем кабинете, я перешел в наступление, чтобы занять его место.
Все говорили, что мне это не удастся. Это меня удивило. Я уже воображал, что меня никто не остановит. Деньги давали мне это право.
Когда прекратились разговоры о том, что мне следует поехать в Европу, в Йель, к черту на рога — куда угодно, лишь бы не в дом один по Уиллоу-стрит, — я переехал в дом Иола, засучил рукава и принялся работать с таким рвением, как никто из моих доброхотов-советчиков.
Мои друзья восхищались мною. Я был тишайшим из всех нас четверых и самым застенчивым, но теперь я говорил даже своим партнерам: «Этого хотел Пол», — и настаивал на предоставлении мне самостоятельности. Моя таинственная, абсолютная уверенность в себе создала мне репутацию чудака со Среднего Запада, и за одну ночь превратила меня в лидера стаи. Джейк и Кевин ходили объятые благоговейным трепетом, и только Сэм, практически как всегда, быстро опомнился и попросил: «Возьми меня с собой!»
Много лет спустя меня кто-то спросил: «Почему Сэм понравился вам больше двух других?» — и я ответил, что это было не так. Больше всех мне нравился Джейк Райшман. Несмотря на разные религии, мы принадлежали к одинаково образованным семействам, и я находил между нами много общего.
Кевин разделял мои спортивные интересы, но был таким шумным, что я от него уставал. Сэм нравился мне тем, что был очень дружелюбным, но для меня оставалось загадкой, почему он чувствовал себя так неловко с Джейком. И только позднее я понял, что он втайне боялся его. Бедный Сэм! Джейк был таким аристократичным ньюйоркцем, таким уверенным в себе, в авторитете своей семьи и в прочности своего места в мире! Его семья жила в Америке уже больше ста лет, и в величественном особняке Райшманов на Пятой авеню разговор за обедом шел на немецком языке, в подвале хранились только немецкие вина, а на большом органе в атриуме играли музыку только немецких композиторов. Для Сэма, неистово пытавшегося откреститься от своего немецкого наследия, поскольку его иммигрантов-родителей в самом начале войны закидывали тухлыми яйцами, было непонятно, как Джейк может гордиться тем, что он немец.
— Ну да, разумеется, когда развязалась война, было трудно! — с удивлением говорил Джейк, когда одним прекрасным вечером Пол спровоцировал их на спор о том, что для них значил их германо-американизм. — Разумеется, было трудно исполнять свой долг американских граждан, когда мы не могли не симпатизировать всем тем немцам, которые безусловно никогда не желали войны! Но в этой войне виноваты были не мы. Почему я должен чувствовать себя виноватым в милитаристских устремлениях Пруссии? Мне не было до них никакого дела!
Сэм робко сказал, что, возможно, было бы лучше быть евреем.
— А это мне для чего? Я такой же немец, как и вы!
— За тем исключением, что ваше настоящее имя не Ганс-Дитер, — проговорил бедняга Сэм и рассказал нам, как жестоко его дразнили в школе до того, как он сменил имя на чисто американское.
Джейка этот рассказ привел в ужас. Во время войны он вместе с несколькими другими мальчиками находился под опекой богатых семей немецких евреев и понятия не имел о том, как страдали менее привилегированные американцы немецкого происхождения.
— Вы должны оставаться с нами! — страстно воскликнул он. — Мы сделаем так, что вы снова будете гордиться тем, что вы немец!
И потом он все время заботился о том, чтобы поднять Сэму настроение, пока к концу этого первого лета мы все не позабыли о том, что Сэм другого происхождения.
Однако, хотя с Сэмом нас крепко связала смерть Пола, я подозревал, что даже если бы Пол был жив, Сэм все равно стал бы моим ближайшим другом — добрый, трудолюбивый, строго гетеросексуальный Сэм с его патефоном, джазовыми записями и смелыми картинами Клары Боу. В его обществе мне всегда удавалось расслабляться. Фактически я ему абсолютно доверял и, когда позволил ему связать свое будущее со мной, начал понимать, что два брата не могут быть связаны теснее своими кровными узами, чем я был связан с Сэмом Келлером тяжелыми испытаниями двух первых лет в банке Ван Зэйла.
Сказать, что мы полностью положились друг на друга, впервые войдя в банк, было бы недостаточно. Я не пошел бы так далеко и так быстро, если бы не было Сэма, и он, в свою очередь, был в равной мере обязан мне. Мы были как пара акробатов на проволоке, где ничто не спасало от падения с головокружительной высоты, кроме собственной сноровки и совершеннейшей координации движений, обусловленной необходимостью выжить. Я спасал его, он спасал меня, и за эти два года, начиная с убийства Пола и кончая уничтожением его убийц, я потерял счет случаям, когда мы с Сэмом приходили друг другу на помощь.
И мы выжили. Выжили, преодолевая свою необразованность и неопытность, пережили и врагов Пола, и его друзей. И если глубоко задуматься над этим, это было нашим величайшим триумфом.
Мы работали день и ночь. Я нанял самых лучших преподавателей, дававших нам частные уроки по банковскому делу, экономике и юриспруденции. Я старался сблизиться с самым старым партнером и искусно пользовался его мозгами. Мы тщательно изучали все досье Пола, выстраивая факты в стройную систему, позволявшую понять требования клиентов и отвечать на них, учитывая опыт прошлого. Мы часто засиживались чуть ли не до рассвета, но в семь часов всегда бывали в бассейне, перед тем как снова отправиться в офис.
Сэм жил вместе со мной в доме Пола. Поначалу это казалось просто решением проблемы, поскольку у него не было дома, но скоро мы поняли, что это единственный вариант, совместимый с железным расписанием наших учебных занятий. Абсолютное доверие друг к другу исключало всякие серьезные ссоры, а если и случалось, что нервы у кого-то не выдерживали, мы решали провести один вечер в неделю врозь, чтобы расслабиться, но, как ни странно, несмотря на такие категорические решения, все обычно кончалось тем, что мы снова оказывались вместе. Мы втайне побаивались Нью-Йорка и предпочитали держаться вдвоем, как пара провинциалов из захолустья. У нас даже не хватало смелости назначить свидание кому-нибудь. Джейк и Кэвин познакомили нас с несколькими девушками, но они были слишком аристократичными для Сэма и слишком искушенными для меня. Однако Сэм уже раскусил, что он не создан для холостяцкой жизни, и, в конце концов, у нас появилась привычка заходить в какую-нибудь уютную забегаловку где-нибудь на восточных Восьмидесятых улицах, где подавали запретное спиртное. Мы выдавали себя за обнищавших студентов колледжа, и было очень занятно смотреть на лица девушек, когда мы приводили их к себе домой, на Пятую авеню.
Прошло довольно много времени, прежде чем я освоился в Нью-Йорке. Несмотря на наши субботние вечера, город долго оставался для меня лишь декорацией, каким-то чужим местом, где я был вынужден жить и работать. И лишь с отъездом Стивена Салливэна в Европу в марте 1929 года я почувствовал себя в безопасности и увидел, что Нью-Йорк в действительности предлагал мне много больше, чем Веллетрия в штате Огайо. Мне как раз исполнился двадцать один год, самое время вкусить удовольствия этого порочного города, и я был более чем готов позабыть предостережения Пола. Сэм был точно в таком же состоянии, что и я. Мы одновременно отбросили узду жесткой самодисциплины, и все то роковое лето перед кризисом, пока Стив валял дурака в Европе, мы вели себя так, что у моей матери, узнай она об этом, голова бы стала белой, а Пол перевернулся бы в своей могиле.

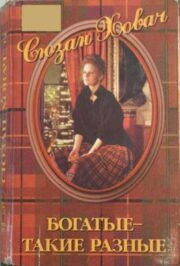
"Богатые — такие разные. Том 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Богатые — такие разные. Том 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Богатые — такие разные. Том 2" друзьям в соцсетях.