Она сказала, что любит меня, мы назначили день покупки колец, а потом я, взволнованный, с затуманенной головой, как на крыльях помчался домой.
Возбуждение мое стало угасать, когда я, уже сидя в кабинете, подумал о том, что матери придется сказать о моем решении раньше, чем мой помощник информирует о нем прессу. В качестве генеральной репетиции я позвонил Эмили в дом Стива в Лонг-Айленде.
— И как приняла это Эмили? — спросил Сэм, вошедший в комнату, когда я уже положил трубку.
— Она считает, что я сошел с ума. — Я постарался, чтобы это не прозвучало слишком мрачно. — А ты, Сэм, не думаешь, что я сошел с ума?
Сэм поскреб себе голову, словно я задал ему вопрос, давно не дававший ему покоя.
— Нет, я решил, что это самое разумное, что ты мог бы сделать. Ты раз и навсегда нейтрализуешь Да Косту — он не решится расстраивать Вивьен, подкладывая тебе свинью, а ты получаешь энергичную и эффектную жену, не говоря уже о других ее очевидных активах. И меня фактически беспокоит лишь одно. Насколько ее задел кризис?
— Конечно, она кое-что потеряла, но по-прежнему получает большой доход от принадлежавшей ее мужу недвижимости в Южной Америке. Она говорила мне, что ей даже не пришлось сокращать количество слуг.
— Это хорошо. Стало быть, она не гонится за твоими деньгами. Ну-ка, дайте мне подумать. Не прохлопали ли мы какой-нибудь ловушки? Ах да, Да Коста. Узнаем мы, наконец, с кем он спит?
— С какой-то высококлассной девушкой по вызову с Парк авеню. Один Бог знает, как он может ее себе позволить. Забудь об этом, Сэм! С Вивьен сплю я один! Да и вряд ли у нее остается после меня время для кого-нибудь другого!
Сэм рассказывал мне о том, как наблюдал за мной, когда я был охвачен этой любовью и какое-то время был даже не способен отвечать за свои действия. В это время зазвонил телефон.
— Да? — снял я трубку, а Сэм вышел из комнаты.
— Господин Ван Зэйл, вас вызывает из Веллетрии в штате Огайо ваш отчим, доктор Блэккет.
— О Боже! Очень хорошо. Соедините, пожалуйста. — Я провел рукой по волосам. Мелькнула мысль, что мать узнала о моей помолвке и впала в истерику. Я в ярости задавался вопросом, как Эмили могла сыграть со мной такую скверную штуку, когда услышал тихий, сдавленный голос Уэйда:
— Корнелиус?
— Да.
— Корнелиус, я… — Он прервался, прокашлялся и с трудом продолжил: — Я звоню тебе по поводу твоей матери.
— Да?
— Она…
Линия замерла.
Неожиданно я обнаружил, что сижу на самом краю кресла с трудом дыша.
— В чем дело?
— Ей стало плохо. Сегодня, рано утром. Она пошла в больницу… но… — Он не мог говорить. — …Полчаса назад умерла… Я так сожалею, Корнелиус…
Бедняга плакал. Мне хотелось положить трубку.
Когда смог, наконец, говорить, я четко сказал в трубку:
— Я сажусь в первый же поезд. Секретарь сообщит вам время прибытия. До свидания.
Я не сразу осознал, что все еще сижу на краю кресла, по-прежнему задыхаясь. На меня нахлынули воспоминания о моем детстве с приступами астмы, и мне пришлось сделать усилие, чтобы не поддаться подступавшей панике. Я развязал галстук, но к тому времени, как мне удалось расстегнуть воротник рубашки, мое дыхание превратилось в глухие рыдания. Моля Бога, чтобы никто не вошел ко мне в кабинет, пока я находился в таком унизительном состоянии, я попытался дышать так, как меня много лет назад учили в больнице. Минуты три я боролся с удушьем, успел несколько раз сильно вспотеть, но мне стало лучше. Овладев собою, я понял, насколько был потрясен. Я думал, что все приступы астмы у меня позади, и теперь новое сознание своей уязвимости было для меня очень тягостным.
Я подумал о Поле. Хотя бы эпилепсии я избежал. Я был отделен двумя поколениями от этого семейного недуга, даже тремя, если считать прадеда, который, хотя сам и был здоров, передал болезнь Полу. Я был уверен в том, что в моем теле не было генов, несущих эпилепсию, и все же не мог не думать о том, как странно, что мне приходится страдать от астмы почти при таких же обстоятельствах, которые вызывали у Пола эпилепсию.
Я надолго уселся за письменный стол, вспоминая, как Пол говорил мне: «В тебе я вижу самого себя». Это воспоминание успокоило меня, но, когда уже ничто не мешало мне думать о матери, дыхание мое снова быстро нарушилось. В кабинете у меня не было лекарства, и я решил, что придется пренебречь правилом воздерживаться от выпивки в офисе. Сэм не только принес мне из винного шкафчика Льюиса бутылку шотландского виски, но и сидел со мной, пока я пил в состоянии какого-то спокойного оцепенения. Дышать стало легче, но в голове был дурман. Я был совершенно не в форме.
— Тебе не мешало бы повидаться с доктором перед отъездом, — озабоченно сказал Сэм.
Я говорил ему об ощущении при затрудненном дыхании, о борьбе за жизнь, о боязни задохнуться. Рассказывал о бессонных ночах, которые я проводил, борясь за каждый вздох. О кажущихся вечностью секундах без воздуха, когда меркнет свет в глазах.
Сэм мягко отобрал у меня бутылку, попросил мою секретаршу навести справки о поездах в Огайо и сам вызвал моего врача, чтобы безотлагательно назначить мне лекарство. Он даже был готов сообщить горькую новость Эмили, но я понимал, что должен поговорить с нею сам.
Мы решили, что поедем вечерним поездом. Эмили была так расстроена ужасным известием, что, к счастью, не заметила, каким холодным тоном я вел разговор, но Вивьен сразу же прониклась моей печалью и даже предложила поехать со мной в Огайо.
Я поблагодарил се, но сказал, что ей следовало остаться в Нью-Йорке. Вивьен принадлежала настоящему и будущему, а Эмили была единственной, кто отправлялся со мной в прошлое, которое давно осталось за моей спиной. Нервничая перед тяжким испытанием, я сжал в одной руке лекарство, в другой — ладонь Эмили и поднялся в вагон поезда, отправлявшегося в Цинциннати.
— О, посмотри, Корнелиус! — воскликнула Эмили. — Вышивки тети Доры! Помнишь, они висели на стене в передней комнате на ферме?
Мы были на чердаке моего старого дома в Веллетрии. Нас окружало все то, что мать накопила за долгие двадцать пять лет двух своих браков. Нам пришлось сортировать одежду: для благотворительности в одно место, для старьевщика в другое, а особо памятные семье предметы в третье, для себя.
— Ты их помнишь? — спрашивала Эмили, выстраивая в ряд все пять текстов на подрамниках у покрытой пылью, тускло блестевшей латунью кровати. — Когда я училась читать, я читала их тебе, маленькому! Ты любил их и заучивал тексты наизусть. Странно — их же было шесть, а не пять? Какой не хватает?
— Жерновов Господа, — ответил я. — Та вышивка висит в моем кабинете, но после Краха она стала не слишком популярной. — Я со вздохом отвернулся от сундука, полного старых фотографий, и следующие полчаса прошли очень приятно в воспоминаниях о довоенных Днях благодарения, забытых игрушках, и о том, какие экзотические пасхальные чепчики выбирала нам мать. Эти ностальгические воспоминания окутали нас коконом, защищавшим от боли.
— Смотри! Папа! — вскричала вдруг Эмили.
Мы с любопытством смотрели на фотографию родившего нас человека. Он стоял, застыв, как солдат, по стойке «смирно», в своем черном воскресном костюме перед главным входом у дома на ферме. Его светлые волосы были разделены четким пробором и прилизаны, а губы, форму которых никто из нас не унаследовал, немного опускались в уголках рта вниз. Светлые глаза были холодными и внимательными.
— Боже мой! — содрогнувшись, воскликнул я. — У него вид как у опасного клиента!
— Но эта фотография не соответствует его настоящему образу! — сказала Эмили, помнившая отца гораздо лучше, чем я.
— Все, что запомнилось мне, это его огромная западная шляпа, которую он не снимал ни на улице, ни в помещении, чтобы казаться выше ростом.
— В действительности он был довольно красивым мужчиной, — добавила она после того, как я сказал, что он очень странно выглядел без шляпы. — И у него была такая добрая улыбка!
Мы бегло просмотрели другие фотографии в альбоме, но на всех неизменная шляпа затеняла лицо отца.
— Не знаю, была ли мама с ним счастлива, — задумавшись, проговорила Эмили, закрывая альбом. — Мне всегда хотелось спросить ее об этом, но я так и не отважилась.
— Но почему бы ей не быть с ним счастливой? — в недоумении спросил я сестру.
— Видишь ли, культурной, высоко образованной женщине на ферме было скучно, а папа даже не мог вести с нею интеллектуальные разговоры. Разве ты не помнишь его деревенское произношение? Он, собственно, не был человеком Среднего запада. Скорее, выглядел уроженцем Кентукки. И часто произносил неправильно некоторые слова.
Я молча переваривал услышанное.
— Что ж, я вовсе не сноб, — заметил я, — и, разумеется, ничего не имею против папы, но я всегда считал себя генетическим уродом, пока не познакомился с Полом. Пол — единственный человек, на которого я действительно похож.
— О, надеюсь, что это не так! — возразила Эмили. — Я очень любила дядю Пола, но он был так ужасно безнравствен! Корнелиус, надеюсь, что, когда ты женишься, ты не станешь заводить любовниц.
— Конечно, нет! — воскликнул я. В конце концов, человек женится именно для того, чтобы избегать вещей такого рода. Я безуспешно попытался вообразить себя дважды взглянувшим на какую-то женщину, кроме Вивьен. Философия Пола о браке ради удобства в сочетании с адюльтером для всестороннего удовлетворения не находила во мне отклика. Она шокировала меня своим викторианским лицемерием, утомляла раздвоением чувств и представлялась разрушительной, даже если строилась на прочности семейных уз. Я понял, что поскольку Викки всегда жила со своей матерью, Полу предоставлялась полная свобода вести себя так, как ему нравилось. Но если у человека есть дети, о которых он заботится, он действительно должен жить как благопристойный христианин, иначе эти дети превратятся в монстров. Я подумал о порхавшем из постели в постель Стиве Салливэне, «гулявшем» от своей жены и оставлявшем беременных любовниц, и только пожал плечами. Один Бог знает, как повернется судьба его детей.
— Я уже перебесился, — сказал я Эмили, — и теперь намерен угомониться и стать хорошим мужем и отцом. — Я оттолкнул в сторону альбом с фотографиями и стал расхаживать по чердаку. — У меня распланирована вся жизнь, — продолжал я. — Несколько лет я не буду уделять значительного времени ничему, кроме банка, но когда стану… — Я вовремя вспомнил, что хотел женить на Эмили Стива, и вместо того, чтобы сказать: «Но когда я стану единственным старшим партнером» — сказал: Когда я твердо встану на ноги, я займусь филантропией. Построю музей искусств и магазин, чтобы помогать нуждающимся художникам и писателям. Буду финансировать постановки пьес, стану одним из самых крупных покровителей искусства в Нью-Йорке. И тогда буду знать, что внес свой вклад в культуру Америки, даже не будучи ни актером, ни художником. Я очень хотел бы этого.
— О, Корнелиус, мама так гордилась бы тобой!
Мы снова расчувствовались. Эмили заплакала, да и мне пришлось украдкой вытереть слезы. Смерть в семье мучительное испытание.
Сразу же по возвращении в Нью-Йорк я записался на прием к специалисту проконсультироваться по поводу своей астмы, но не успел состояться этот визит, как я заболел бронхитом. К тому времени, когда мне стало лучше, на горизонте уже дразняще маячил день моей свадьбы, пятнадцатое января, и, когда врач предложил отложить свадьбу, пока не поправлюсь окончательно, я пришел в ужас. Я устал болеть, рвался в офис, не мог дождаться, когда улягусь в постель с Вивьен уже с полного благословения Бога, своей семьи, да и всего нью-йоркского света.
Я поправлялся, но все три лечивших меня специалиста, собравшиеся у моей постели, категорически потребовали, чтобы я больше не позволял себе выкурить ни одной сигареты.
Я попытался было возразить, но мнение этой медицинской троицы значило для меня слишком много.
Курить я бросил.
Я никогда не думал, что отказ от этой привычки мог казаться таким мучительным. Я покупал жевательную резинку, мешками поедал кукурузные хлопья, чтобы заглушить тягу к сигарете, но расслабление после соития уже никогда больше не было прежним. Выкурить в темноте сигарету — это так романтично! При воспоминании об этом хруст кукурузных хлопьев казался каким-то извращением самой идеи расслабления. Во время нашего свадебного путешествия во Флориду, где Льюис Кэрсон предоставил в наше распоряжение свой замок в Палм-Бич, я даже отказывался выходить в город, чтобы не видеть людей с сигаретой во рту. Правда, Вивьен сухо заметила, что жители Палм-Бич вовсе не из тех, кто стал бы расхаживать взад и вперед по Рос авеню с сигаретой в зубах.

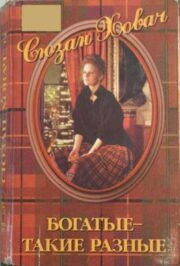
"Богатые — такие разные. Том 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Богатые — такие разные. Том 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Богатые — такие разные. Том 2" друзьям в соцсетях.