Я отбросил это воспоминание и сосредоточился на своем плане. Я знал, что Мейерс уничтожил папки с любовными письмами, хранившиеся в подвале, но нельзя было принимать факт на веру. Мисс Слейд была далеко не ординарной любовницей, и маловероятно, чтобы Пол хранил переписку с нею в подвале, как если бы это было просто архивное досье. Я прервал ход своих мыслей, чтобы подсчитать возможный объем этой переписки. Он уехал от нее в ноябре 1922 года, а в Нью-Йорк она приехала в апреле 1926-го. Значит, можно предположить, что переписка продолжалась, по меньшей мере, три года. Вряд ли они писали друг другу чаще, чем раз в месяц, и, стало быть, получается писем сорок — даже восемьдесят, поскольку Пол всегда сохранял копии всех посланий. Должны быть также и фотографии. Я знал, что к тому времени мисс Слейд обладала достаточными техническими познаниями. Восемьдесят писем и, один Бог знает, сколько фотографий. Одним словом, целое досье.
Сняв трубку, я позвонил Сильвии. Теперь я лучше понимал, что мне предстояло сделать нечто важное. Прозвучал сигнал, горничная взяла трубку, и через минуту Сильвия уже спрашивала, как у меня дела.
После того, как закончился обмен обычными любезностями, я сказал:
— Сильвия, у меня к вам бредовый вопрос. После того, как вы вышли из библиотеки в день смерти Пола, вам не попадались какие-нибудь письма от Дайаны Слейд?
— Господи, нет, конечно! Пол никогда не держал дома подобных писем, Корнелиус. В библиотеке были лишь письма членов семьи, которые он хранил из сентиментальности — письма его матери и сестры, а также, разумеется, вашей матери. Но я должна рассказать вам об одной странности, до сих пор остающейся для меня тайной: нигде не обнаружилась его переписка с Викки, а я прекрасно знаю, что он хранил каждую строчку, когда-либо присланную ему дочерью.
— Вы уверены, что он хранил эти письма дома?
— Да, и прежде всего потому, что после ее смерти он делал что-то вроде альбома, отражавшего все моменты ее жизни. Я застала его однажды вечером за этой работой, и, боюсь, дала ему понять, что, по моему мнению, она носит какой-то болезненный характер. Мы никогда больше не возвращались к этой теме, а позднее, когда корреспонденция не обнаружилась, я подумала, не унес ли он ее в свой кабинет в банке. Даже задавалась вопросом, не сжег ли ее Мейерс, что было бы невероятно, так как он никогда не уничтожил бы письма Викки без разрешения семьи.
— Гм. — Я на момент задумался. — Вы кому-нибудь говорили об этом?
— Да, я просила Стива специально поискать эти письма в банке и спрашивала Элизабет, не знает ли об их судьбе она. Я подумала, что вашей матери могли быть дороги эти письма, если они еще существовали, ведь она так любила Викки.
Мы поговорили об этом таинственном исчезновении еще с минуту, и, поблагодарив Сильвию, я положил трубку.
Мне удалось найти в телефонной книге номер телефона Элизабет Клейтон, и я позвонил ей.
— Корнелиус? — отозвалась она с сомнением, когда слуга позвал ее к аппарату. Мы с Элизабет никогда не питали слишком теплых чувств друг к другу. Роль Брюса в заговоре делала для меня невозможным быть с нею больше чем просто вежливым, но даже до смерти Пола я считал ее холодной и чванливой.
— Да, госпожа Клейтон, — учтиво ответил я. — Добрый вечер. Я подумал, что, может быть, вы могли бы мне помочь. Я пытаюсь разыскать часть личной переписки Пола, которая, как я подозреваю, осталась неуничтоженной, хотя Мейерс многое сжег после убийства. Может быть, вы случайно знаете, где…
— Уж не ищете ли вы папку с письмами Дайаны Слейд? — без паузы спросила она.
Я так удивился, что прошло какое-то время, прежде чем я бесстрастно спросил ее:
— Почему вы так подумали?
— Ее как-то уже искал Стив, но позже сказал мне, что так и не нашел. На вашем месте я не стала бы тратить время на ее поиски, Корнелиус. Я уверена, что одной из первых уничтоженных Мейерсом папок была переписка между Катуллом и его Лесбией.
— Простите?
— О, так вы ничего не знали? Они обычно именно так обращались друг к другу в своих личных посланиях. Пол показывал мне некоторые из ранних писем. Они были очень странными и даже забавными.
— Госпожа Клейтон, а Пол и Викки в переписке друг с другом тоже пользовались классическими именами?
Элизабет задумалась.
— Да, конечно, — удивленно ответила она. — Я об этом как-то не подумала. Да, конечно, вы правы, так оно и было. В своих письмах он всегда называл ее Туллией, а подписывался тремя буквами: МТЦ.
— МТЦ?
— Марк Туллий Цицерон. Туллия была любимой дочерью Цицерона.
— Да, конечно. Благодарю вас, госпожа Клейтон, — завершил я разговор.
Схватив нужные ключи, я бросился в подвал. Пересмотрел все, разыскивая хоть какое-то упоминание о Марке, Туллие или Туллии, о Цицероне или о Катулле, но ничего не обнаружил. Но все же я не сомневался, что иду по верному пути.
Проверил я и деловые досье в кабинете. И в них ничего не было. Решив еще выпить, чтобы лучше работала уставшая голова, я вернулся в кабинет Пола и еще раз нажал пружину, открывая потайной бар. Книжный шкаф повернулся в мою сторону. Книги Пола, к которым, уважая его память, после его смерти никто не прикасался, смотрели прямо на меня своими корешками.
— Боже мой! — вслух проговорил я, забыв про бренди.
Отступив на шаг, я смотрел на полки с книгами, возвышавшиеся от пола до потолка по обе стороны камина.
Мне понадобилось несколько минут, чтобы добраться до того, что я искал, так как я начал с самого верха, и только на нижней полке обнаружил два стоявших рядом тома.
В одном, очевидно, были письма Цицерона, а в другом произведения Катулла.
Я улыбнулся и, возбужденный своим открытием, нежно обхватил руками наконец-то найденные папки.
Глава восьмая
Досье эти представляли собою большие коробки с корешками, обтянутыми красной кожей со сверкавшими тиснеными буквами. Их толщина говорила о том, что это вовсе не книги. Все тома с трудами Цицерона и Катулла, которые я увидел, к счастью, были тонкими.
Поглаживая рукой досье Катулла, я смаковал перспективу подробного анализа махинаций мисс Слейд, но, откладывая это удовольствие, я сначала открыл досье переписки Пола с Викки.
Я хотел заглянуть в него лишь мимоходом, но был немедленно захвачен его атмосферой. В противоположность нормальному досье, где последний документ лежит всегда сверху, оно начиналось первым письмом Викки, и дальше в хронологическом порядке были подшиты все письма до последнего. Все содержимое было расположено с максимальным вниманием к деталям, фотографии были наклеены на толстую черную бумагу, с надписями, выполненными белой краской. Были там и вырезки из газет, тщательно обрезанные и оформленные так же, как фотографии. Была подшита даже программа бала, устроенного Полом в связи с первым выходом Викки в свет. Была и записанная рукой Пола биография дочери, отражавшая его личные воспоминания. Когда я подумал о том, сколько времени и переживаний должна была стоить Полу вся эта работа, я преисполнился к нему большим сочувствием.
Не раздумывая долго, я принялся за чтение.
Но в первые же десять минут оно меня так озадачило, что я вынужден был остановиться. Корреспондент Викки показался мне совершенно незнакомым человеком. Он изъяснялся подслащенной романтической прозой, перегруженной нелепыми сантиментами. Человек этот не мог быть Полом.
Я с сомнением просматривал его подписи под письмами, но видел только «МКЦ», о которых мне говорила Элизабет Клейтон. Я читал с возраставшим недоумением. Викки писала красочно, ясно и весело. Пол же плел что-то бессвязное об Очаровательном принце, об Истинной любви, о Счастливом конце и о том, как ему хотелось бы, чтобы все это стало уделом Викки. Я не мог понять, почему он прививал Викки такое нереальное представление о жизни, как он мог себе позволить вдалбливать дочери весь этот сентиментально-романтический вздор.
Это было непостижимо.
В сильном волнении я подлил себе бренди. Позднее мне вспоминалось, как я, дойдя до середины, заглянул в самый конец досье, где прочел запись о смерти Викки. Это разволновало меня еще больше. Прочитав ее счастливые письма, я осознал тяжесть утраты, которой не чувствовал на се похоронах, и понял, что наконец, спустя годы после се смерти, узнал ее по-настоящему.
Я не мог отделаться от мучившего меня вопроса, действительно ли я хорошо знал Пола, и, стараясь отогнать его, взял досье Катулла и вышел из банка на Уиллоу-стрит.
В такси я досье не открывал. Меня переполняли воспоминания, и, подъехав к своему дому, я думал уже не о мисс Слейд, а об Алисии.
Послав помощника расплатиться с таксистом, я было двинулся через холл, но нервы меня подвели. Я проскользнул наверх, добрался до своей комнаты и, не зажигая света, уселся на край кровати.
Алисия вошла в комнату через двадцать минут. Я слышал се шаги, и увидел свет, проникший из коридора, когда она открыла дверь.
— Корнелиус?
Я включил лампу, стоявшую у кровати. Ее свет меня ослепил, я прикрыл глаза рукой и все еще не опускал ее, почувствовав, что Алисия села рядом со мной.
Мы молчали, а когда я набрался храбрости посмотреть на нее, то немедленно понял, что ей было все известно.
На ней было бледно-зеленое шелковое платье, а темные волосы подобраны над ушами. Никаких драгоценностей, только бриллиантовые серьги. Увидев, как она бледна, я почувствовал к ней жалость. Бедная Алисия, старавшаяся говорить только о хорошем, пытавшаяся совладать со слишком невыносимой правдой… этот паротит… детская болезнь, такая бессмысленная, такая ненужная…
— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.
Голос мой прозвучал как-то небрежно, почти беспечно, а руки застыли на коленях.
— Я месяц назад говорила с доктором Уилкинзом. Ее монотонный голос звучал лишь чуть громче, чем шепот. — У меня были подозрения. Я помнила о том ужасном осложнении, когда у тебя был паротит, а когда мой доктор сказал, что мне ничто не мешает иметь детей, я позвонила Уилкинзу. Он объяснил, что раньше, чем ты пройдешь обследование, он ничего сказать не сможет, хотя и дал понять, что существует большая вероятность того, что ты… что ты не сможешь больше иметь детей, потому что оба… потому что во время твоей болезни было поражено все. Он сказал, что если бы орхит был не таким сильным, то это могло бы пройти, но что нам с этим не повезло.
Этот медицинский термин представился мне таким же древним и специфично клиническим, как стены лаборатории доктора Глассмана. Меня охватило полное базразличие ко всему, и мне казалось, что она рассказывала историю о каком-то неудачнике, не имевшую никакого отношения ко мне.
— Я сказала доктору Уилкинзу, что не могу поверить, — продолжала Алисия. — Что как мне кажется, совсем наоборот, все в порядке. Вообрази меня говорящей все это доктору Уилкинзу! Но я не чувствовала никакого смущения, потому что он был так благожелателен, так добр… Никогда не думала, что он такой. Он принялся рассказывать мне о протоках, блокированных фиброзной тканью, и я почувствовала себя тупицей, так ничего и не поняв. Я сказала ему, что каждый раз бывало извержение жидкости, он с этим согласился, но в жидкости не было ничего — либо недостаточно, либо вообще ничего — так как через протоки ничего пройти не могло. Все это так трудно понять… Я никогда не была слишком сильна в анатомии, даже не знаю, что происходит в моем собственном теле. Разве это не странно, что человек годами живет со своим телом, так толком и не понимая, как оно функционирует?
Я смог лишь сказать:
— Значит, ты знала об этом уже целый месяц?
— Нет, сначала не знала, потому что доктор Уилкинз сказал, что не может утверждать ничего. Я колебалась, следует ли сказать тебе о его догадке, но ты уже сам решил обследоваться и я не стала ничего говорить, чтобы попусту тебя не беспокоить. Кроме того, я, по правде говоря, не верила в это — подозревала, но не могла поверить.
— Я тоже подозревал все время, — согласился я, — и тоже не мог поверить. Внешних признаков, которые вызывали бы опасения, не было. Я говорил себе, что все это пустяки, поскольку у нас не было никаких проблем сексуального порядка, хотя все время повторялись симптомы, о которых я тебе не говорил, а однажды и та самая проклятая боль. Несколько раз я готов был остановить машину, проезжая мимо библиотеки на Сорок второй улице по пути домой, чтобы прочесть в медицинском словаре о паротите, но так и не отважился. Куда легче оказалось уверять себя, что все в порядке и что так будет и впредь.
Еще труднее было сказать то, что я должен был сказать после паузы. Мы оба сидели на краю кровати, на расстоянии друг от друга, и молчание наше затягивалось. Наконец я проговорил, глядя в лицо Алисии:

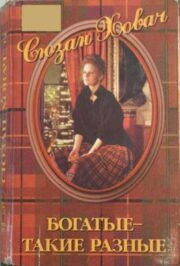
"Богатые — такие разные. Том 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Богатые — такие разные. Том 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Богатые — такие разные. Том 2" друзьям в соцсетях.