Видал так разительно переменился с тех пор, как его протеже неожиданно покинула Голливуд вместе с молодым мужем, а позже объявила о своем намерении никогда больше не возвращаться. Его ссоры с Теодором Гамбеттой скорее походили на настоящие сражения и приводили в ужас всех окружающих, но тем не менее Видал не позволял Теодору сказать ни единого плохого слова о Валентине.
Морщины, сбегавшие от носа к губам, стали глубже. Кажется, за одну ночь в черных как смоль волосах появились серебряные нити. Однако в тридцать два года он по-прежнему оставался одним из самых молодых, смелых и талантливых режиссеров Голливуда.
Хейзл пересекла террасу и направилась к столу. Бессмысленно делать вид, что водитель не достал сегодня газет. Видал немедленно поймет, что она солгала, и заподозрит неладное, а когда все-таки узнает новости, окончательно выйдет из себя, и будет только хуже.
Она положила газеты рядом с прибором Видала, заметив, что на столе стоят холодная утка, ледяное пиво, паштет из гусиной печени, салями и черный хлеб из грубой ржаной муки. Пристрастия Видала также претерпели изменения. Когда она впервые появилась в Вилладе, Видал завтракал как все американцы – дыня, горячие булочки с маслом, крепкий черный кофе. Теперь он, казалось, нисколько не заботился, вписывается ли в общество, к которому принадлежал. Даже его акцент стал куда заметнее: подчеркнутое ударение на первом слоге каждого слова. Он стал человеком, которого люди старались избегать. Мрачный, вспыльчивый, он редко улыбался, но даже в эти мгновения его глаза оставались жесткими и холодными. Хейзл забыла, когда слышала его смех.
– Доброе утро, Хейзл.
Кариана вышла к столу в пеньюаре из воздушного голубого шифона.
– Доброе утро, Кариана.
Все трое уже давно звали друг друга по именам, отбросив неуместные в подобных обстоятельствах формальности.
Кариана уселась, и горничная поспешила налить ей горячего шоколада. Она поднесла чашку к губам, не обращая внимания на газеты, и поглядела на голубую гладь океана пустыми безмятежными глазами. Хейзл посмотрела на нее и качнула головой, гадая, уж не стали ли перемены, которые они считали улучшением, очередным признаком падения в пропасть безумия. Теперь Кариана выглядела куда спокойнее, истерики и побеги из дома прекратились. С того последнего случая перед отъездом Валентины из Голливуда не было ни одного приступа. Но тот день Хейзл никогда не забудет. Конечно, она очень переволновалась тогда из-за исчезновения Карианы, но главное, она впервые увидела в жизни, а не на экране, героиню фильма «Королева-воительница». Было в Валентине нечто беззащитное и в то же время вызывающее, особенно когда она настаивала на встрече с Видалом. Хейзл успела заметить недоумение на этом прелестном лице и почувствовала жалость к молодой женщине. Почему? Этот вопрос она часто задавала себе. Именно Кариана заслуживала жалости, однако сердце Хейзл болело за Валентину.
Она еще раз взглянула на снимок: улыбающаяся Валентина прижимает к груди новорожденного сына. Ее жалость явно неуместна. Как раз в ту минуту, когда все лихорадочно искали Кариану, Валентина уже была влюблена в греческого пианиста – недаром в газетах тактично упоминалось о том, что ребенок родился преждевременно.
Хейзл улыбнулась. Со дня свадьбы прошло всего семь месяцев.
– Я, наверное, поеду сегодня по магазинам, – мечтательно протянула Кариана, запрокидывая голову так, что длинные волосы заблестели золотом на утреннем солнце. – Отправимся на бульвар Уилшир, и я накуплю себе платьев, а может, и каких-нибудь мехов.
Хейзл согласно кивнула, но неотвязные сомнения вернулись. Поездки за покупками стали почти ежедневными, хотя Кариана редко надевала дорогие платья и меха. Вряд ли она помнила, что вообще покупала. Она постоянно все забывала. Иногда начиная предложение, не могла его закончить. Не помнила, в какую комнату идет и зачем. Временами затруднялась назвать свое имя и считала, что по-прежнему живет в доме отца.
Видал с таким облегчением воспринял прекращение необъяснимых перепадов настроений у Карианы, что Хейзл не осмеливалась упомянуть, как опасны могут стать ее апатия, вялость и странная забывчивость. Но для Видала любое состояние Карианы было предпочтительнее мании, превращавшей жену в фурию, одержимую дьяволом. Теперь он мог даже приглашать в Вилладу гостей, и жизнь обрела подобие нормальной. Но интуиция подсказывала Хейзл, что весь этот покой очень обманчив.
Видал присоединился к женщинам, даже не переодев бриджей и сапог, в которых ездил на утреннюю прогулку.
– Доброе утро, Кариана. Хорошо спала?
Жена повернула голову в его сторону. Медленная улыбка раздвинула ее губы, однако она тут же отвернулась и вновь уставилась вдаль.
– Доброе утро, Хейзл. Какие планы на сегодня? – осведомился Видал, наливая себе ледяного пива. Он не выносил присутствия слуг за завтраком, и горничная появлялась только затем, чтобы налить очередную чашку шоколада для Карианы.
– Кариана хотела поехать по магазинам.
Если Видалу не слишком понравилась перспектива очередного опустошения его банковского счета, он не подал виду. Покупки отвлекали Кариану, занимали все ее время и казались единственным средством от депрессии и взрывов буйства.
– Прекрасно, – кивнул он, доедая холодную утку и мысленно повторяя доводы, которыми собирался убедить Мейера поставить «Евгению Гранде» Бальзака.
Луис Мейер, конечно, откажется. Дескать, сюжет отнюдь не коммерческий и публика мало интересуется классикой. Но Видал просто обязан убедить его в противоположном. Основное – не ошибиться с выбором актрисы на главную роль.
Он отодвинул блюдо с уткой. Она была бы идеальной героиней. После выхода на экраны фильма с Валентиной в роли Евгении все студии в городе лихорадочно бросились бы подражать Видалу, пытаясь снять картину по произведению классики, которая получила бы такую же известность.
Но в душе Видала царил холод, словно потеря Валентины льдом сковала сердце и этот лед так и не растаял. И неизвестно, растает ли.
Видал потянулся за газетой, и Хейзл старательно отвела взгляд, притворяясь, что занята Карианой. Ему в глаза бросился заголовок:
«СЫН ГОЛЛИВУДСКОЙ ЗВЕЗДЫ, ПОЖЕРТВОВАВШЕЙ ВСЕМ РАДИ ЛЮБВИ».
Ниже была помещена фотография улыбающейся Валентины на больничной постели с ребенком на руках. Паулос Хайретис обнимал жену за плечи, с гордостью глядя на нее и сына.
На террасе тотчас наступила гробовая тишина. Ни шуршания газет, ни стука вилок. Хейзл, отважившись, повернула голову. Девушке показалось, будто Видал превратился в камень. Темные как ночь глаза странно блестели. Резко отодвинув стул, он вскочил и в неудержимой ярости метнулся в дом.
Кариана даже не шевельнулась и словно не заметила внезапного исчезновения мужа.
– Знаешь, – мечтательно произнесла она, – если бы перевоплощения действительно существовали, я хотела бы стать облаком. Плыла бы по небу долго-долго, и иногда, иногда, когда начинались бы бури…
Ее голос замер, но Хейзл заметила, что хотя лицо Карманы оставалось абсолютно спокойным, пальцы под столом терзали кружево пеньюара так, что тонкая ткань разлеталась в клочья.
Видал промчался через дом и устремился к конюшне. Сегодня он не способен говорить с Мейером. И вообще ни с кем. Его сжигали такие опустошающие злоба и ревность, что его плоть словно распадалась. Паулос Хайретис дал ей то, чего он никогда бы не смог дать – ребенка. Ребенка, рожденного в браке.
Видал пришпорил коня и безжалостно погнал его вперед. Впервые Видал осознал, что каждое утро просыпался с тайной надеждой. Надеждой на то, что Валентина вернется. Что оставит Хайретиса. Надеждой, которая только сейчас была растоптана.
И всадник, и конь порядком притомились – пот лил с них ручьями, но они взбирались все выше и выше в холмы, не сбавляя шага. Видала пожирало желание. Терзало. Мучило. Ему всего тридцать два. Как он проживет до конца дней своих без Валентины? Как сможет существовать?
Видал натянул поводья, и когда лошадь встала, спрыгнул и бросился на землю, в отчаянии зарывшись лицом в ладони. Когда он поднялся, солнце уже закатилось. Видал провел здесь целый день. Сев на коня, он поскакал домой. В сумерках его лицо казалось ожесточившимся и постаревшим. Если он не может получить женщину, которую любит, значит, найдет других. Десятки. Сотни. Тысячи, если понадобится. И настанет день, когда он забудет о боли в объятиях одной из них. Он вправе ждать от жизни большего, нежели роль опекуна и защитника безумной, живущей с ним под одной крышей женщины.
Весь Голливуд был потрясен. Ракоши брал и бросал самых прекрасных женщин города, заботясь об их репутации так же мало, как о своей собственной. Его называли венгерским дьяволом, и слухи о разнузданных похождениях Ракоши смаковались за каждым обеденным столом, на каждой вечеринке. Говорили, что он каждую ночь занимался любовью с тремя и даже четырьмя женщинами. Самая яркая звезда студии «Парамаунт» пыталась покончить с собой после того, как Ракоши бросил ее. На студии «XX век Фокс» не осталось ни одной актрисы, не побывавшей в его постели. Романтические приключения Эррола Флинта на этом фоне казались всего-навсего проделками зеленого юнца.
Хейзл Ренко читала светскую хронику, отвечала на бесконечные телефонные звонки и не переставала задаваться вопросом, неужели ей предстоит идти по жизни, испытывая горькую жалость к людям, которых она любила всем сердцем. Но что бы ни вытворял Видал вне дома, в Вилладе все текло по-прежнему.
Видал был неизменно вежлив с Карианой, и все ее желания немедленно исполнялись. Хейзл старалась не допускать к ней репортеров и никогда не подзывала к телефону, если звонили посторонние. В доме не оставлялось на виду ни одной газеты. Кариана Ракоши, единственная во всем Голливуде, пребывала в неведении относительно бесчисленных романов мужа. Она отстранилась, ушла в свой мир, куда никто, кроме нее, не мог проникнуть. Поездки по магазинам прекратились. Теперь она довольствовалась тем, что часами сидела с одной и той же вышивкой в руках, к которой даже не притрагивалась, уставясь в горизонт, словно там лежало решение всех ее проблем.
«Наверное, – думала Хейзл, пытаясь уговорить Кари-ану войти в дом после того, как солнце давно село, – ей было бы лучше в лечебнице. Тогда Видал смог бы снова жениться».
Но никто из звезд и старлеток, с которыми связывали его имя, не мог заставить Видала хотя бы улыбнуться. Иногда Хейзл казалось, что на лице Ракоши навсегда застыло мрачное, угрюмое выражение.
Глава 19
Валентина успела несколько минут подержать ребенка, прежде чем Паулосу позволили войти. Малыш весил почти десять фунтов, и это обстоятельство тщательно скрывали от прессы – приходилось, хотя бы ради матери Паулоса, делать вид, что роды были преждевременными.
В лице мальчика не было ничего от Валентины. Вылитый Видал – та же угольно-черная грива непокорных волос. Глаза сначала были зажмурены, особенно когда он оглушительно вопил. Но как только няня положила ребенка на руки Валентине – тот успокоился, и глазки открылись. Впервые мать и сын увидели друг друга. Хотя няня категорически утверждала, что у всех новорожденных голубые глаза, его оказались темными, с густыми ресницами. Маленькие кулачки высвободились из одеяла, в которое малыша завернула няня – он, как и отец, не терпел никаких ограничений.
Валентина с благоговением коснулась нежной, как лепесток, щечки, обводя еще не оформившиеся черты и твердо зная, какими они станут через несколько лет – сильный подбородок, высокие скулы, разлетающиеся брови. Таким сыном Видал мог гордиться. А они с Паулосом будут любить и беречь.
Паулос вбежал в комнату, и облегчение, отразившееся на его лице, не смогло скрыть страданий, пережитых за те часы, пока Валентина в муках рожала сына.
Он быстро подошел к ней и нежно поцеловал, как всегда тревожась только за жену.
– Как ты, любимая? Очень тяжело пришлось? Они не хотели меня впускать, но я слышал, как ты кричала…
Валентина улыбнулась, ощущая в этот миг почти материнскую любовь к мужу.
– Дорогой, роды были совсем легкими. Правда.
Он сел рядом и впервые с потрясенным изумлением перевел взгляд с сияющей жены на туго запеленутыи сверток у ее груди. Он никогда раньше не видел новорожденных и нерешительно протянул палец, который немедленно оказался стиснутым в маленьком красном кулачке.
– Она просто восхитительна, дорогая. Совершенно невероятная малышка!
– Это он, – весело поправила его Валентина.
Малыш снова жалобно сморщился, побагровел, открыл маленький ротик, испуская оглушительный вопль.

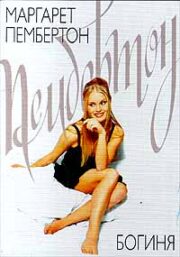
"Богиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Богиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Богиня" друзьям в соцсетях.