— Послушай, в чем причина? Неужели в этих рокерах и кроликах?
— Нет. — Я гляжу в сад. — Не в кроликах.
— Так в чем же? — интересуется Джо и обнимает меня. — Опять твой отчим звонил?
Я молча протягиваю Джо кусок маринованного огурца.
— Ну, колись. — Джо морщится и старается не вдыхать уксусных испарений. — Что он тебе сказал? Он не раздумал проводить съезд в память о твоей матери?
Я хмуро утыкаюсь в банку с огурцами.
— Посиди-ка здесь минутку. — Джо поднимается и направляется в кухню. — Я открою тебе еще баночку.
3
На следующей неделе исполняется семнадцать лет со дня смерти моей матери, и мой отчим Фрэнк почему-то решил устроить по этому случаю вечер памяти и созвать всех родственников. Мы должны прибыть с фотографиями, и памятными вещами, и смешными историями, и собраться в кружок, и за рюмочкой шерри (рюмочки используются не чаще раза в год, кусок хлеба с маслом прилагается) поделиться воспоминаниями о моей матери. В этом весь Фрэнк. Мысль насчет вечера памяти пришла ему в голову внезапно, когда он слушал один из своих любимых альбомов — «Десять лучших весенних гимнов всех времен». Вместо того чтобы мирно заснуть, он решил обзвонить всех и каждого. Через недельку в голове у него что-то щелкнуло и он вспомнил, что по правилам хорошего тона надо бы и мне позвонить.
Меня бесит не само предстоящее мероприятие, меня злит, что оно проводится именно сейчас. Первая годовщина смерти мамы прошла незамеченной. Пятая и десятая тоже. На двенадцатую годовщину я позвонила Фрэнку. Розовый куст, под которым покоится прах мамы, имеет довольно-таки жалкий вид, сказала я. Фрэнк признался, что забыл заплатить кладбищу за уход за местом погребения.
Тогда-то я и решила взять с собой Джо. Мы были вместе каких-то несколько недель, но стоило мне сказать ему про розовый куст, как Джо сразу же вызвался отвезти меня в Брайтон и лично посмотреть, что там с розой. Мы сидели на холодной металлической скамье, смотрели на заросшую могилу, и Джо сжал мне руку и поклялся, что доведет здесь все до ума. Слово он сдержал. Достаточно было двух месяцев (и трех поездок на кладбище), чтобы хилый, наполовину засохший кустик вымахал чуть не вдвое и расцвел восково-белыми цветами, пахнущими летом, и солнцем, и свежевыглаженным бельем. Маме бы понравилось. Она всегда предпочитала розы всем остальным цветам.
— Так когда состоится вечер? — Джо протягивает мне стакан воды, чтобы предотвратить обезвоживание, неизбежное после такого количества соленых огурцов.
— В следующую субботу. — Я стараюсь выловить огурец побольше. — Если ты со мной не поедешь, я не обижусь.
— Еще чего. Разумеется, я поеду с тобой. Уж пора бы мне познакомиться с ними со всеми.
— Чего ради? — интересуюсь я. — Мы вместе каких-то паршивых пять лет. Я не собиралась натравливать на тебя мою новую семейку еще годика четыре.
— Все совсем не так плохо. Давай устроим из всего этого небольшое путешествие. Заночуем в субботу где-нибудь в гостинице.
— Даже не знаю… Честно говоря, мне бы хотелось побыстрее выполнить свой долг и покончить со всем этим. Посетить крематорий, выпить чашку чаю с молоком, съесть печеньку «Вэгон Вил» — и прямо домой.
— Ты уверена?
— Да. — Я закручиваю крышку на банке с огурцами. — Терпеть не могу море зимой. Оно навевает на меня тоску.
Джо возвращается в сад, а я направляюсь в спальню. Среди фотографий мамы мне надо отыскать такую, что подошла бы для предстоящего вечера. На платяном шкафу лежит мой поношенный рюкзак, под ним — коробка с бумагами, старыми фото и невесть чем еще. Я вытаскиваю из-под рюкзака коробку и смахиваю с нее пыль. Коробка полна всякого хлама, в основном привезенного мною из поездок по миру. Тут и деревянный Будда со сколотым носом, и длинное шелковое платье, купленное на ночном рынке в Чанг-Май, и мешочек с фальшивыми драгоценностями, которые мне буквально всучил оборотистый погонщик слонов в Раджастане, и целая кипа путеводителей, гостиничных карточек и засаленных музейных билетов.
Фотоальбом лежит на самом дне коробки. Когда я достаю его, желудок у меня невольно сжимается. На некоторые мамины фотографии мне до сих пор тяжело смотреть, даже на ту, где она стоит в воде и смеется, а волны омывают ей колени. Глаза у мамы прикрыты, чтобы не слепило солнце. Так и кажется, что фотография издает запах морской соли и масла какао, которым смазаны ее загорелые плечи, и даже слышны крики с американских горок. Голова у мамы повернута в ту сторону, откуда кричат.
На следующей фотографии вода маме выше плеч. Мама машет кому-то рукой, ее длинные пальцы высоко в воздухе, но с той точки, откуда сделан снимок, невозможно определить, насколько далеко она от берега. Вряд ли мама зашла в море дальше, чем на несколько футов, но кажется, что она на краю света. Вокруг только вода и вода.
И на все это поляроидными призраками накладываются образы мамы в период болезни. Ее широкие скулы заострились от боли, кожа на руках истончилась, посерела и постарела, под ней нет ни клочка плоти, и кажется, что лишенные естественной защиты кости вот-вот треснут пополам.
Я гоню от себя эти картины, но выражение маминого лица в последние недели перед смертью так и стоит у меня перед глазами. В нем всепобеждающий хаос и неизбывный страх. В дни перед самой кончиной к этому выражению добавились какие-то странные оттенки, которые трудно было истолковать. Я поняла их как абсолютную безнадежность. Мне было всего пятнадцать лет, но я догадалась, что жизнь потеряла для нее всякий смысл. Немало лет прошло, прежде чем смысл ушел и из моей жизни.
С этими снимками связана еще одна странность — у многих из них обрезан край. Когда я осознала, что папа не приедет даже на похороны, я вырезала его изображение из каждой фотографии. Я действовала очень аккуратно: при помощи мягкого карандаша и линейки проводила пунктирную линию, отделяя папу от остальной части снимка. Оставалось только взмахнуть маникюрными ножницами. Теперь-то я сожалею о содеянном, но тогда мне казалось, что так ему и надо. Как еще могла я его наказать, как еще могла выразить ему свое презрение?
Так что в фотоальбоме нет фотографий двух человек: мамы перед болезнью и папы перед тем, как он ушел из дома.
Я закрываю альбом и роюсь в коробке: вдруг еще что найду. Под руку попадаются несколько фотографий мамы в халате и наколке медсестры (тогда она еще не оставила работу); снимки моих сводных братьев-близнецов во время представления; кипа моих старых школьных табелей, каждый в коричневом конверте, и тоненькая стопка газетных вырезок с обтрепанными и загнутыми, словно у лежалых бутербродов, краями.
Вырезки сделаны из нашей местной газеты «Аргус». Первый заголовок гласит: «В возрасте четырнадцати лет девочка из Брайтона получила наивысший балл по математике». Второй заголовок извещает: «Девочка — математический вундеркинд исключена из школы после неоднократных задержаний за воровство в магазинах». Статьи снабжены небольшими фотографиями и захватаны жирными пальцами. Я достаю обе вырезки из коробки и подношу к глазам. На первом снимке я в школьной форме — поправляю очки и демонстрирую фотографу официальный документ, подтверждающий мои успехи; на втором снимке я стою перед городским судом, на мне потертые джинсы и майка с надписью «МЯСО = СМЕРТЬ», а во рту — сигарета «Голуаз» без фильтра. На первый взгляд эти два снимка разделяет лет десять, хотя, если присмотреться, видно, что выражение лица у меня осталось неизменным. Я до сих пор помню свой тогдашний строй мыслей. Я думала: вдруг каким-то чудом папа увидит одну из этих фотографий и преисполнится такой гордости (или тревоги, или гнева), что передумает и вернется ко мне.
— Что скажешь? — спрашивает Джо, вытаскивая меня в сад. — Нравится?
— Еще бы. — Я пытаюсь пошатать беседку и радуюсь, какая она прочная. — Она такая… изящная.
— У нее не слишком дачный вид?
— Нет, — возражаю я, — ничего подобного. Особенно если посмотреть на эти зеленые скобы, понатыканные везде, где можно.
— Это чтобы клематисам было за что зацепиться. Я их еще не посадил.
— Понятно.
— Будет здорово. Летом эта штука даст массу тени.
— Теперь осталось только добиться, чтобы пьяницы не совали свои пенисы в зеленую изгородь, и можно будет смеяться от счастья.
— Пенисы?
— Ага. Я же тебе говорила. Прошлым летом какой-то бездомный просунул свой пенис через зеленую изгородь, когда я загорала, и напрудил целую лужу.
— Серьезно?
— Конечно. Рядом с бамбуком осталось мокрое пятно, и пришлось все засыпать песком и наводить лоск по новой.
У Джо расстроенный вид. Он уже готов сказать, что уж в деревне-то точно никто не будет совать свои пенисы в наш садик, но тут на ум ему приходит более актуальная тема.
— Нашла фотографию мамы? — спрашивает он, нагибаясь, чтобы поднять какой-то лоскут.
— Да. — Я показываю ему пляжный снимок. — По-моему, очень удачная карточка.
Джо берет у меня фотографию и долго рассматривает.
— Какая она тут счастливая, правда? — говорит он наконец и гладит меня по голове.
— Да, — подтверждаю я, — по-моему, она счастлива.
— А кому она машет рукой? Тебе?
— Не знаю. Может быть. Но скорее всего папе.
4
— Господи, у меня все лицо заледенело. Ты ведь сказала, что не любишь моря зимой.
— Я помню. Но ты только посмотри на волны. Они такие замечательные, правда? Все в пене и водоворотах.
— А дождь со снегом только добавляет им очарования. Давай лучше пойдем и съедим что-нибудь.
Мы прибыли в Брайтон часа за полтора до начала вечера памяти (это все из-за меня — мы выехали из дома в десять утра) и теперь вязнем в глубоком песке, перемешанном с галькой, и смотрим на волны. Джо считает, что у меня иррациональный страх перед опозданиями и потому я всегда срываюсь с места слишком рано, — но если по правде, я просто хотела лишний раз поглазеть на море.
— Ты чем занята?
— Считаю.
— Зачем?
— Хочу убедиться, что каждая девятая волна на самом деле больше других.
— А она больше?
— Конечно, нет.
— Идем отсюда, я проголодался. Найдем подходящее местечко и поедим рыбы с картошкой.
— А как насчет «даров моря»? — Из-за ветра я вынуждена кричать. — У пирса есть забегаловка. Они торгуют моллюсками и всем таким.
— Ни в коем случае, — содрогается Джо и кутается в пальто. — Ничего маринованного, ничего неумерщвленного и ничего в собственном соку.
Не понимаю я его нелюбви к морепродуктам. Из «даров моря» мне нравится почти все. Рядом с вокзалом была старомодная кафешка, и папа иногда водил меня туда в знак поощрения. Там подавалось все, что можно выловить в море. Жирные желтые мидии, посыпанные перцем, трубороги, которых надо было извлекать из раковин при помощи специальной вилочки, куски крупного угря, политые зеленым как травка соком, и, наконец, самое вкусное — устрицы, которые жались в своих раковинах и проскальзывали по пищеводу, как куски теплого солоноватого желе, оставляя песчинки на зубах.
Я облизываю губы и пробую обработать Джо.
— Как насчет устриц? — спрашиваю я в надежде, что присущие им свойства афродизиака перевесят чашу весов. — Устрицы — это очень полезно. Говорят, они усиливают половое влечение.
— И какую конкретную пользу они мне принесут в данный момент? — интересуется Джо, смахивая с лица ледяные капли. — Мы под открытым небом. На берегу моря. Сейчас середина марта.
— Правильная постановка вопроса. Но ведь заранее ничего не знаешь. Может, ты съешь их много и они еще будут оказывать свое действие, когда мы вернемся домой.
— Ни за что, — упирается Джо. — Никогда.
— Ну перестань. Польешь их своим соусом «Табаско» или чем-нибудь в этом духе.
— Ладно, — вздыхает Джо. Соус «Табаско» явно сослужил мне добрую службу. — Но только если потом мы зайдем в «Гранд-отель» и выпьем чаю с булочками.
— Что-то меня подташнивает.
— Зачем же ты их столько стрескала? Их надо смаковать. А ты как схватишь деревянную вилку, да как начнешь вскрывать раковины и метать моллюсков в рот. Я оглянуться не успел.
— Откуда ты знаешь, что их надо смаковать? Ты их до сегодняшнего дня даже не пробовал.
— Так точно. Но пожалуй, к ним можно привыкнуть. Не такая уж это гадость, как я думал.
— Я пошла в туалет, — говорю я, сдерживая тошноту. — Закажи все сам.
Я отправляюсь на поиски уборной, раздвигая на своем пути пенсионеров, а Джо заказывает чайник «Эрл Грея» за пять фунтов и полную тарелку теплой сдобы. Что-то нервишки меня подводят. Меня тошнит не из-за съеденных устриц, мне делается плохо при одной мысли о встрече с Фрэнком и сводными братьями. Время от времени мы звоним друг другу, но вживую не виделись уже многие годы. С моей последней поездки в Азию. С того момента, как мы с Джо стали жить вместе.

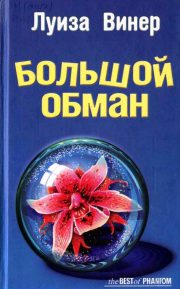
"Большой обман" отзывы
Отзывы читателей о книге "Большой обман". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Большой обман" друзьям в соцсетях.