Я нагибаюсь и целую Ниси в щеку. Каро целует ее в другую, а Тинси смачно чмокает прямо в губы!
Лежа в постели, я ощущаю присутствие Каро. Слышу ее дыхание, чувствую, как бьется сердце. Вдыхаю ее запах, запах Каро. Рисовая мука и свежескошенное сено.
Лунный свет падает на меня и подругу. Аромат свежих оливок висит в воздухе, словно кто-то выдыхает его ртом. Я смотрю на спящих подруг. На лицах все еще остались следы косметики, хотя мы честно старались вытереться простынями, чтобы мать ничего не заметила. Я-я — это и есть моя настоящая семья. Я королева Танцующее Облако, могучая воительница из Великого Королевского племени я-я, и ни один белый мужчина никогда не покорит меня. Лунная Леди — моя мать.
Наутро мы поскорее снимаем белье с постелей, прежде чем мать успевает выйти на крыльцо и разбудить нас. Мы вскочили еще до рассвета, когда краски дня только ожили, и откинули пологи. Наше первое утро в качестве полноправных я-я.
— Девочки, — говорит мать, — не стоило снимать белье. Не будете же вы стирать эти простыни! Отдайте мне весь узел. Не хочу, чтобы ваши мамы подумали, будто я заставляю вас работать прачками за то, что позволила провести ночь с Виви.
Но мы стараемся спрятать от нее вымазанное макияжем белье.
— Миссис Эббот, — начинает Ниси, вежливо улыбаясь, — пожалуйста, позвольте мне взять их домой и выстирать. Это будет моей особой епитимьей.
Ничего не скажешь, ловко подвешен язык у нашей Ниси!
— Ах, Дениза, как замечательно! — восхищается мать. — Жаль, что Вивиан не так часто следует твоему примеру! Сегодня утром ты доставила Пресвятой Деве большую радость.
Ниси снова улыбается матери и моргает как истинная дочь Марии, гордость нашего племени.
— Пойдемте завтракать, — приглашает мать. — Мистер Барнедж принес нам свежие растонские персики.
Мы покорно идем за ней.
— Минутку, девочки, — говорит она. — Я только посмотрю, не появились ли на гардении новые бутоны.
Она обходит крыльцо и оказывается прямо напротив статуи.
— Иисусе, Мария и Иосиф! — ахает она, крестясь, закрывая ладонью рот и начиная трястись всем телом. — Кто мог это сделать? — восклицает она. — Кто?!
Тинси выступает вперед, смотрит моей матери прямо в глаза и изрекает:
— Миссис Эббот, а что, если это чудо?!
— Чудо, — шепчет мать, словно статуя заплакала или начала кровоточить.
На несколько мгновений мать сама замирает словно статуя, прежде чем начать срывать цветы жимолости, бутоны розы «Монтана», ветви сладкой оливы, все, до чего может дотянуться, — и осыпает ими статую Пресвятой Девы. Потом выбегает во двор и отламывает ветви магнолий, головки тубероз и гибискуса и собирает в передник. Я никогда не видела ее в таком состоянии. Она как одержимая летит обратно, роняет цветы к ногам статуи и с силой трясет розовую плеть, так что бутоны падают прямо на голову Божьей Матери. Наше крыльцо еще в жизни не было таким живописным. Мать превратила его в алтарь великолепной цветной Девы.
— Святая Матерь Христова, — бормочет она. — На колени, девочки! На колени и молитесь!
Мы падаем на колени, мать вынимает из кармана передника четки и громко читает молитву:
Слава тебе, ярчайшая Звезда Океанов,
Слава тебе, о Матерь Цветов!
Осени нас сладчайшим благоуханием
Своей любви и сострадания
Ты, носившая в чреве своем
Его, которого не смогли удержать небеса!
Мы продолжаем стоять рядом с матерью. Милость Божья спасла нас от дьявольских аллигаторов, от бушующего урагана. Выжили только мы. Гордые и могучие, едва не погибшие, но чудом сохранившие племя я-я, мы буквально купаемся в чудесах.
9
Назавтра, когда Сидда и Хьюэлин отправились на почту Куино, снова моросило. Ни дождя, ни ливня, так, серенькое небо и изморось.
Если бы Сидда могла придумать новое определение осадков, более пассивно-агрессивное, чем «изморось», наверняка бы употребила именно его. Впервые она начала понимать Мэй Соренсон, часто твердившую, что северо-запад способен поразить плесенью душу человеческую.
Она позвонила своему агенту из телефона-автомата рядом с почтой. Тот заверил Сидду, что она не пускает карьеру по ветру только потому, что решила немного отдохнуть, и что за последнюю неделю земля не перестала вращаться.
В корзинке с почтой до востребования ее ожидала открытка от Коннора с акварельным изображением одной из сцен спектакля. На оборотной стороне было написано:
«Дорогая Сидда!
Постель стала слишком велика для меня одного, когда ты уехала. Я не могу заснуть, особенно потому, что теперь в моем распоряжении больше 1/6 матраса, которую ты обычно мне оставляешь. Закончил эскизы ко второму акту и должен сказать, что сиэтлская команда неплоха. На нашем временном заднем дворе расцвел почти миллион вьюнков. Ты нашла коробку, которую я поставил в машину? Почеши за меня брюшко губернатору Хьюэлин.
Я тебя люблю.
Коннор».
Вернувшись домой, Сидда вытерла длинные курчавые уши Хьюэлин, заварила чай и натянула сухие теплые носки. Порылась в компакт-дисках, снова выбрала Рики Ли Джонса, исполнявшего хиты Виви, подошла к окну и посмотрела на озеро, напевая песню «Весна, которая тебя терзает».
Нашла открытку с изображением гигантского морского моллюска, пририсовала к нему пару крыльев, так что овальная раковина стала походить на готовый взлететь пенис, и принялась писать:
«Крошка котик!
Не драматизируй! Я всегда уступала тебе не менее четверти любой кровати, в которой мы спали. Да, мамина посылка в надежных руках. Вернее, все время рядом со мной. То тут, то там. Об остальном позже.
Люблю тебя.
Сидда».
Запечатав открытку в конверт, она потянулась к альбому и удивленно уставилась на четыре узких полоски кожи, связанных бечевкой. На каждой полоске, в аккуратно прорезанной щелке, покоился пенни сорок первого года. Задрав голову к потолку, Сидда тихо хихикнула. Четыре обрезка от мокасин!
Она живо представила, как мать вместе с остальными я-я трудится над изношенными мокасинами, проделывая в них прорези для монет. Интересно, тогда все ребятишки увлекались этим или только я-я?
На той же странице было вклеено фото четырех подружек, снятых на боковом крыльце дома Эбботов на Комптон-стрит, и принадлежащее к тому же времени, что и давно сношенные мокасины. Бросив взгляд на снимок, Сидда отложила альбом и вышла на кухню. Пришлось выдвинуть все ящички старого буфета, прежде чем она обнаружила то, что искала. Лупа лежала во втором ящике вместе с колодой карт, игрой «Монополия» и коллекцией ракушек.
Сидда снова открыла альбом, подула на лупу, старательно протерла подолом толстовки и принялась изучать фотографию. Она уже видела ее раньше, но теперь собиралась хорошенько рассмотреть каждую деталь. Плеть розы «Монтана», вьющаяся по навесу и перилам, была так густо усыпана цветами, что свет, пробивавшийся на крыльцо, должно быть, отливал розовым. На заваленном подушками гигантском плетеном диване с широкими изогнутыми подлокотниками лежали Виви, Ниси, Каро и Тинси, по две в каждую сторону, причем ноги их так переплелись, что трудно было сказать, кому которая принадлежит. На Виви — полосатый топ-флайбэк с широкими бретелями, завязывающимися на шее сзади, и шорты. Волосы подняты вверх, и легкие прядки прилипают к влажной коже. На железном столике рядом с софой стоит черный вентилятор. На полу — четыре высоких чайных стакана, в них длинные соломинки.
Кто же сделал снимок? И что происходило за кадром? Что случилось за секунду до того, как щелкнул затвор?
Отложив лупу, Сидда прищурилась, так что фото окутала слабая дымка. Полдень безделья и чая со льдом. Я-я никуда не идут. Лежат на крыльце в тени виргинских дубов. Немцы на подступах к Сталинграду, газовые камеры работают на полную мощь, но я-я еще не закончили школу и изнывают от лени и покоя. Вот он, настоящий комфорт. Настоящая радость. Только взгляните на эту четверку! Ни у одной нет часов. Этот день на крыльце не планировался. Не включен в ежедневник.
Эти девочки на крыльце понятия не имели, что собираются растянуться на диване, утопая в подушках. И понятия не имеют, когда поднимутся. Их единственная забота — подставить тела прохладному ветерку от вентилятора. Они знают только, что это единственное место, где можно спастись от жары.
Хочу лежать вот так, плыть по волнам, не ведая ни волнений, ни амбиций. Хочу населить свою жизнь, как это крыльцо.
В то время люди принимали крыльцо и проведенное на нем время как нечто само собой разумеющееся. Крыльцо или веранда были принадлежностью каждого дома. Ничего особенного, подумаешь, крыльцо! Нечто вроде открытой комнаты на полпути между миром улицы и миром дома. Если веранда-галерея идет вокруг всего здания, как у Эбботов, в ней существуют разные мирки. Если вы развалились на боковой части, как я-я, значит, вам тепло, уютно и спокойно. Именно туда выходили я-я, когда их волосы были накручены на бигуди и им не хотелось разговаривать с прохожими. Именно там они лежали часами, рассматривая свои пупки, потея, в дреме, отмахиваясь от мух, делясь секретами. А по вечерам, после захода солнца, у камелий шныряли светлячки, и их крошечные огонечки еще сильнее убаюкивали я-я, маня в безмятежность крыльца. Безмятежность, владеющую их душами даже в старости.
Когда люди встречаются годы спустя, с малышами в колясках или на руках, или еще позже, когда их руки трясутся от глубоко угнездившейся, не имеющей названия печали, их аура куда-то исчезает. Вы не можете понять, в чем дело, хотя сознаете, что этих женщин объединяет глубинное знание. Тайные коды, шифры, знаки и язык уходят корнями назад, в те текучие времена, когда кондиционеры еще не высушили тяжелую, всепроникающую сырость, висевшую над луизианскими домами, пропитывавшую ситцевые блузки, щекотавшую кожу капельками пота, замедлявшую мыслительные процессы, действия и поступки людей до такой степени, что и жили они в собственном, неспешном мире. Густая каша жизни проникала в кровь людей, в головах которых варились эксцентричные, лениво-вольготные мысли. Мысли, которых больше не возникало после того, как веранды были застеклены, а климат побежден. Когда все окна были наглухо закрыты, а доносившиеся из соседних домов посторонние звуки надежно заглушило жужжание телевизоров.
Посиделки. Так называли я-я свои импровизированные сборища, когда Сидда была маленькой. Четверо ребятишек Уокеров втискивались в «тандерберд» вместе с Виви и мчались в город, к Каро, Тинси или Ниси, врываясь на подъездную аллею в бешеных воплях клаксона, и дружно орали:
— Лучше бы вам оказаться дома!
Мгновенно появлялись стаканы с «Кровавой Мэри», сливочный сыр с перцем и крекеры, галлон лимонада и печенье «Орео» для детей, Сара Воан[37] на стерео, и начиналась вечеринка. Никаких предварительных планов или приглашений.
В таких случаях Сидда одевалась в один из пеньюаров, оставшихся от приданого я-я, и позволяла Виви обучать ее восхитительным рискованным импровизированным танцам в стиле Айседоры Дункан. Размахивая длинной волшебной палочкой со звездой из фольги на конце, Сидда бешено извивалась на любом крыльце, куда доводилось попасть. Какое это было счастье, когда отблеск сияния Виви падал на нее! Полдень перетекал в вечер, вечер — в ночь, и не успеешь оглянуться, как еще один день миновал и Виви с детишками уже мчится назад, в Пекан-Гроув, и в опущенные окна машины врывается прохладный ветерок.
— Здорово повеселились, маленькие приятели? — кричала она детям.
— О да, мама, еще бы! — хором отвечали они.
Сидда снова подняла лупу и принялась изучать глаза матери. Когда все пошло наперекосяк? Каким образом Виви, полная света, становилась Виви, полной мрака?
Ибо на каждые моменты волшебства приходилось равное количество ужасающих часов коктейлей, когда бурбон с водой уносил Виви прочь от дома, хотя она даже не трудилась встать с места.
В такие вечера, выходя из спальни, чтобы подлить в стакан новую порцию бурбона, Виви упорно повторяла детям:
— Убирайтесь прочь! Не могу вас видеть!
Сидда училась балансировать на шаре. Училась ходить по канату. Оттачивала искусство войти в комнату и тут же угадать настроение, потребность, желание каждого из присутствующих. Развила в себе способность моментально определить, накалена ли атмосфера, как настроен персонаж, как идет беседа, в чем значение простого жеста, и понять, что в данный момент необходимо больше всего, когда и сколько. Виви легко переходила от одной крайности к другой, то вальсируя с ангелами, то сражаясь с демонами, и ее дочь, наблюдая эти колебания невидимого гигантского маятника, училась сочинять и ставить драмы. Училась тому ненавязчивому, неверному, шаткому вдохновенному эмоциональному наречию, на котором обязан бегло говорить хороший театральный режиссер.

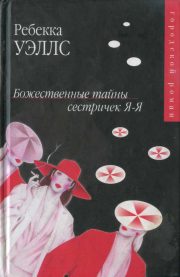
"Божественные тайны сестричек Я-Я" отзывы
Отзывы читателей о книге "Божественные тайны сестричек Я-Я". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Божественные тайны сестричек Я-Я" друзьям в соцсетях.