Эмери все же уступил, слава Тебе, Господи! Все сокровища патриархата теперь принадлежали князю. Констанция послала Ибрагима позаботиться об измученном старике и молилась, чтобы его высокопреосвященство простил Шатильону пережитые муки и унижения по примеру Спасителя, простившего своих гонителей.
Но себя Констанция прощать не собиралась. Она нарушила свой обет – не защитила невинно пострадавшего. Под вой и причитания мамушки, суровое молчание дамы Филомены и умильные похвалы дамы Доротеи цирюльник выполнил приказ: нежные пряди мягко падали к сафьяновым туфелькам Констанции и скоро окружили табурет золотым нимбом. Увидела себя в зеркальце, похожую на мальчика, не выдержала, расплакалась. Обстриженную, повинную, кающуюся голову тщательно закутала в покрывало. Страшно было представить, что скажет Рейнальд, увидев ее обритую наголо, но княгиня Антиохии не имела права покорно смириться с проступками того, кого сама посадила на трон.
Последние годы франки и сарацины, словно в шахматной игре, по очереди делали каждый свой ход и попеременно ставили друг другу шах.
Поначалу счастье улыбалось Иерусалиму. Бодуэн захватил Аскалон, а Каирский двор сотрясал один дворцовый переворот за другим, и в каждом, словно дрожжи в хлебной муке, оказывался замешан старый знакомец – Усама ибн Мункыз. После нескольких покушений и перемен власти Фатимидский халифат так изнемог, что только постоянная угроза Нуреддина на севере не позволяла латинянам захватить страну Нила. Бодуэн удовлетворился обещанием очередного правителя-визиря уплатить его королевству огромную дань – сто шестьдесят тысяч динаров.
В Сирии франки по-прежнему защищали Дамаск от Нуреддина и тем временем чувствовали себя там как дома: наследник Мехенеддина не только с готовностью оплачивал христианский протекторат, но и лично являлся засвидетельствовать свое почтение Бодуэну каждый раз, когда король появлялся на севере. Франкские ополчения беспрепятственно проходили по землям эмирата, и посланники короля даже посещали дамасские базары, широко пользуясь правом выкупать христиан из басурманской неволи. Однако собственные подданные презирали Муджир ад-Дин Абака за то, что он опирался на латинян, и считали его изменником веры, поэтому многие из них обрадовались, когда Нуреддин внезапно появился под стенами города. Жители надеялись, что если эмират сдастся атабеку, тот возобновит поставки зерна в Дамаск: из-за неурожая и войны мешок пшеницы стоил уже 25 динаров, и те, у кого таких денег не было, мерли от голода.
Иерусалимская армия тут же бросилась защищать союзника, но на сей раз опоздала. На седьмой день осады жители спустили со стены еврейского квартала веревку, воины Нуреддина проникли внутрь, и дамасцы охотно сдались тому, кого прозвали Светом Веры, о милосердии и справедливости которого среди них уже давно ходили легенды. Город святого Павла, место, где было написано Евангелие от Матфея, попал в руки заклятого врага латинян. Арабский скакун обогнал рыцарского дестриэ.
Отныне весь восточный фланг Заморья – от Эдессы на севере до Заиорданья на юге – принадлежал Зангиду, одержимому одной мыслью – уничтожить франков. Атабек Алеппо сумел разжечь рвение мусульман и дал им важнейшее до сей поры преимущество христиан – воодушевление и веру в себя. Впервые сарацины почуяли возможность полной победы полумесяца над крестом.
Однако Нуреддин хоть и алкал войны с латинянами, но предпочитал действовать осмотрительно и наверняка, а по всей Сирии по-прежнему свирепствовал неурожай, и атабека по-прежнему отвлекали розни с конийскими сельджуками Анатолии. Поэтому Зангид поспешил заключить перемирие с Бодуэном и даже продолжил выплачивать ему дань Дамаска – восемь тысяч динаров. Франки пошли на соглашение, ибо за полвека так устали от войн и людских потерь, что даже с этим сыном дьявола были готовы уживаться до той поры, пока не изыщут способа избавиться от него. Чем кровожадней и воинственней становились неверные, тем больше латиняне жаждали мира, чтобы спокойно наслаждаться своими прежними завоеваниями.
Наверное, Констанция была плохой христианкой и нерадивой правительницей, но больнее потери Дамаска ее уязвила весть, что Алиенор Аквитанская взошла на престол Англии вместе с супругом Генрихом Анжуйским. Констанция любила своих мужей и охотно одаривала их властью и владениями, в то время как холодная Алиенор сама умудрялась получать от своих мужей блистательнейшие короны Европы.
Сыны Троицы владели всего-навсего узкой прибрежной полосой, но самонадеянно верили, что их власть над Фалястын незыблема. Однако Нур-ад-Дин вовсе не забросил своего намерения одолеть врагов Аллаха, атабек лишь выжидал подходящего случая для нападения. Девятая сура Корана повелевала выполнять договор, заключенный с многобожниками, но только до тех пор, пока те первые не нарушат его. Поэтому Свет Веры не боялся связать себе руки миром, твердо уповая, что несдержанным и воинственным франджам ненадолго хватит разумения соблюдать данное слово.
В благоприятный кисмет Нур-ад-Дина уверовал и Усама ибн Мункыз. Быстрее всех в Леванте ухватывал эмир намеки на волю Аллаха и следовал за его милостями с безошибочным нюхом свиньи, чующей трюфеля в глубине земли. В результате подстроенных им покушений и смен властителей шейзарский интриган приобрел в Мисре такое множество завистников и недоброжелателей, что уже следующей весной вынужден был бежать из Аль-Кахиры в Сурию вместе со своим другом, визирем Насером ад-Дином Аббасом, и содержимым халифской сокровищницы. По дороге караван захватил гарнизон Аш-Шубика-Монреаля, Заиорданской крепости королевства. Армянский эскорт бежал, а Насера передали храмовникам. Бывший визирь внезапно, но оттого не менее горячо возжаждал обратиться к христианству и, не откладывая, приступил к постижению истины. Но, когда каирский двор предложил за убийцу ибн Саллаха шестьдесят тысяч динаров, алчные храмовники прервали посвящение Насера в таинства своей веры и выдали пленника. Нежные руки четырех безутешных вдов ибн Саллаха разорвали несчастного на куски.
Один непотопляемый ибн Мункыз, хоть и лишился в пути самого драгоценного достояния – четырех тысяч свитков рукописей, – тем не менее, добрался до Дамаска и предложил победоносному Нур-ад-Дину свою верную службу и бесценные советы за соответствующее вознаграждение.
Под безоблачным небом попутный ветерок нес победоносное войско антиохийцев к родным берегам, оставляя позади сожженный, разграбленный и опустошенный Кипр.
Трирема «Серениссима» и прочие корабли флотилии скользили по гладкому, спокойному морю, и все же многим воинам на палубе с непривычки было не по себе. Но мало кому приходилось так тяжко, как плотному, седоусому рыцарю лет сорока. Пот струйками стекал по вискам выбритой головы, бедняга корчился и морщился. Зеленый от тошноты, то и дело склонялся над бортом и, перекосившись от отвращения, отворачивался от остальных попутчиков.
– Ба! Старый знакомый!
Смуглое лицо капитана Антонио рассекла усмешка: кто бы подумал, что его палубу снова замарает знакомый франк, неспособный перенести даже прибрежную прогулку? Но Бартоломео д’Огиль встрече с италийским прохвостом вовсе не обрадовался. Несмотря на ясную погоду, рыцарь дышал через силу, постоянно сглатывал слюну и не сводил взгляда с горизонта, вцепившись волосатыми ручищами в снасть, как скряга в дукат.
– Не вы ли, дорогой сеньор д’Огиль, клялись съесть собственную перчатку без соли, если когда-либо снова подыметесь на корабль? – услужливо напомнил Антонио.
– Я на Кипре столько дерьма съел, что, считайте, выполнил свой обет уже десяток раз, – хмуро ответил Бартоломео и страдальчески свел мохнатые, похожие на гребешок волны брови.
– Вас следует поздравить: за три недели вы покорили весь остров! – восхищенно покачал головой венецианец. – Никогда родине Афродиты не оправиться от этого разгрома!
Трюм, кормовую надстройку и все каюты зафрахтованной антиохийцами «Серениссимы» до отказа забили тюки с золотом, серебром и ценными трофеями, и, если бы на палубе не валялась сотня этих бешеных франков, попутный ветерок непременно увлек бы груженую сокровищами трирему прямиком к родным венецианским лагунам.
Бартоломео не ответил, только сглотнул вязкую слюну. Легкая победа и богатая добыча не смывали тошнотворный вкус этого ужасного похода. Три недели назад, пока армяне продолжали жалить Византию в Киликии, Торос, Рейнальд и тамплиеры наняли флотилию и отплыли к греческому острову. Латиняне кипели возмущением: видно, Комнин считал, что рыцарская кровь должна литься ради него бесплатно, если отказался оплатить захват Александретты! Он скоро убедится, во что обойдется Ромейской империи его скупость и пренебрежение к франкам!
Остров походил на райские кущи. Бирюзовые прозрачные морские воды, белые скалы побережья, тихие полукруглые бухты, сосны на песке, засаженные виноградниками холмы, золотое колыхание пшеничных полей, оливковые рощи, заросшие кедровыми лесами горы, мирные греческие деревушки с красными черепичными крышами, в сердце каждой – каменная церковь с высокой колокольней. Но Кипр был выбран Шатильоном не за красоту, а потому что был богат, близко расположен, плохо защищен и управляем племянником ненавистного василевса.
В первом же бою Бартоломео отличился. Это был бой, славный, честный бой. Что с того, что не с тюрками, а с киприотами? Главное, что воины Шатильона вскоре смяли неприятельское ополчение и пленили самого губернатора вместе с его прославленным военачальником Михаилом Бранасом. Остров был захвачен почти без потерь и по праву стал добычей завоевателей. Бартоломео гордился победой и радовался невиданной поживе – разве не собственной силой и кровью отважные рыцари испокон веков добывали славу и состояние?
Но поселиться в неприступном замке на вершине холма, где средиземноморский ветерок продувал бы каменные залы, питаться козьим сыром, заедать оливы и лук мягким пшеничным хлебом с хрусткой корочкой, пить сладкую, тягучую, отдающую солнцем коммандарию из вяленого винограда и вдоволь вздыхать при этом о далекой и жестокой мадам де Бретолио не пришлось. Франки не собирались задерживаться на острове: их было слишком мало, чтобы удержать его, а Константинополь, по слухам, уже снаряжал армию.
И тогда, чтобы больно и обидно наказать Ромейскую империю, князь Антиохийский отворил врата ада, и вся армия Шатильона, включая простака и добряка Бартоломео, губительным вихрем прошлась по острову Киприды. Пылали запаленные дома, поля и овины, во дворах, на обочинах дорог валялись разрубленные трупы мужчин и тела поруганных женщин с бесстыже задранными подолами. В дымном воздухе висели стоны раненых, отчаянные вопли брошенных младенцев, звон кандалов бредущих по дорогам верениц пленников с кровавыми язвами на месте ушей и носов… Конечно, сам Бартоломео в жизни не опоганил бы свой Куражо, заслуженный меч лучшей дамасской ковки, ушами греческих попов, но рыцарь не мог ни остановить остальных, ни избавиться от нестерпимой, пронзительной жалости к киприотам и тягостных сомнений в правоте латинян.
– Это ведь Кипр во время Первого Великого похода спас от голодной смерти крестоносцев, когда они осаждали Антиохию, – Венецианец с наслаждением сыпал соль на раны франка. Понизил голос, прищелкнул пальцами: – Кстати, если в вашей добыче имеются паникадила, образа и облачения поценней, я подскажу вам честнейшего перекупщика.
Рыцарь рухнул на сверток толстых пеньковых канатов, на висках вспухли жилы, к горлу подкатил рвотный спазм. Антонио наконец-то отцепился, и вовремя, потому что еще одно невыносимое напоминание о качающихся на одной петле дверях сельских храмов с выбитыми витражами, об окровавленном трупе священника на пороге, о затоптанных копытами иконах, вырванных из серебряных и золотых окладов, о загаженных, порушенных алтарях – и сокрушенному ужасом и раскаянием д’Огилю пришлось бы изрубить италийского насмешника на мелкие кусочки.
Наглые чайки резко кричали женщинами, насилуемыми солдатней. А что подумает благородная дама Изабель, когда услышит о творимых антиохийскими воинами безобразиях? Чего доброго, подумает: какой же негодник этот Бартоломео, которого я всегда считала образцом всех мужских добродетелей и чьей преданностью я заслуженно гордилась! И некому будет объяснить ей, что Бартоломео остался верен своему высокому долгу ее паладина! Рыцарь вытер испарину с блеклого, перекошенного мукой лица, его тошнило не из-за одной качки:
– Клянусь самой прекрасной и доброй дамой Изабель де Бретолио, первым делом пожертвую Непорочной Деве серебряный подсвечник. Даже два! А за все случившееся пусть Господь с Шатильона взыскивает. И я скорее сжую свой сапог, чем снова подниму благородный Куражо на безобидных вилланов, которые вдобавок почти такие же примерные христиане, как и мы.
Весной аль-Малик многобожников Бодуэн со своей армией поднялся на тучные пастбища возле Баниаса и захватил у мирных туркменов, подданных Нур ад-Дина, великое множество скотины и конских табунов. Это нападение подало султану желанный повод нарушить опостылевший мир с грязными пожирателями свиней. Подстегнули его и воинственные настроения дамасской толпы.

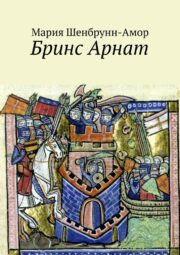
"Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад" друзьям в соцсетях.