– Все эти армяне, они все заодно, за своего царька в огонь и в воду. Даже мои армяне ему наверняка помогают. – Кивнул на запотевшее окно. – Вон, сколько тут голубей носится. Неудивительно, если Торос все из Антиохии узнает. А мне кто поможет?
Сам виноват, сам отвратил от себя всех, но что ей делать с этим шилом жалости, которое пронзает ее даже сквозь толстый слой злости и колет в самое сердце? Шатильон заслужил наказание, но ему грозила смерть. Рено теперь редко делает ее беззаботно счастливой, только никто другой по-прежнему на это и вовсе не способен.
– Рейнальд, зачем ты такой – безудержный, безжалостный и никакого страха в тебе?
Помотал башкой, словно большой пес, вздохнул судорожно, затрепетал ресницами:
– Не знаю. Ну не вложил в меня Господь ни жалости, ни смирения, ни страха. Только честь, и бешенство, и отчаянного упорства до отвала. Я знаю, чего хочу, и знаю, как это взять, а мне мешают те, которые сами ничего не могут. Меня презирают те, которые сами не стоят моего мизинца. Мне с самого начала пришлось только на себя рассчитывать, отец был щедр исключительно на побои. Даже своего первого Баярда и вооружение для крестового похода я был вынужден позаимствовать, не стал затруднять себя спросом, а папашу отказом. И с тех пор я сам по себе, сам за себя и против всех. Кроме тебя, душа моя.
Представила Рено маленьким, худеньким, беззащитным, испуганным мальчиком, похожим на Бо, и огромного, толстого отца, колошматящего малыша дубиной. Сердце сжалось. Она сама все знала о слабости и беспомощности нелюбимого ребенка. Униженное дитя выросло в рыцаря, неукротимого и мятежного, как Рено де Монтобан. За нанесенное оскорбление Монтобан убил племянника Шарлеманя, и мстительный Шарлемань много лет преследовал мятежного вассала. Так и Шатильон не боялся всем противостоять: патриарху, греческому императору и королю Иерусалима. Теперь все они ополчились на ее возлюбленного. Нет, она не может покинуть его:
– Пуатье сумел заставить себя склониться перед василевсом. И прощения просил на могиле Иоанна. Он сделал это ради Антиохии. Тебе следует повиниться, Рено.
Шатильон нашарил розовую пятку Констанции, забрал в теплую ладонь, принялся греть, хмыкнул:
– Мон Дьё, не за тем я прибыл в Утремер, чтобы землю перед греком целовать.
– А зачем? Погубить нас всех? О, Рено, когда-нибудь тебе уже никто не сможет помочь.
От его руки жар расползался по телу, захотелось прижаться к нему, уткнуться лбом в плечо, вдыхать запах его кожи, и не отпускать. Рено без обычного гонора пробормотал свою обычную присказку:
– Я прибыл нагнать страху на весь Восток и прославиться на весь Запад. Но, если ты мне не поможешь, я закончу мои дни в Константинопольском каземате. Душа моя, разузнай у Грануш, где Торос скрывается, а?
Констанция сглотнула захлестнувший горло ком любви, жалости, нежности, пересилила себя, не ответила. Шатильон завладел ее стылой, безжизненной рукой, перевернул, уткнулся в ладонь, поцеловал, обдавая теплым дыханием:
– Ты мерзнешь, жена? Ты холодна ко мне, словно монашка…
Констанция покачала головой: ах нет, вовсе, вовсе не холодна. Он почуял, что она дрогнула, стал льнуть, ласково перебарывая ее сопротивление, вцепившись манящим, хмельным взглядом, заклиная хриплым шепотом:
– Милая моя Констанция, у меня ведь никого, помимо тебя. Ты – единственный мой человек на этом свете, единственная, отдавшая мне все, что имела. Спаси меня.
Все ее обиды и весь гнев таяли, стоило ему приголубить ее. Грехи Рено вопияли к Господу и даже у нее вызывали отвращение, но душу, как подцепленную на крючок рыбу, тянул и переворачивал страх за него, веселого, отчаянного, бесшабашного. Киприотские вилланы были заложниками своего василевса, а княгиня – заложницей безобразий и неразумия Шатильона. Вилланов, конечно, жалко, но небеса наверняка позаботятся о несчастных, а вот за заблудшего Рено, кроме нее, ни на земле, ни на небе никто не станет заступаться.
– Ты что, думаешь, армянский царь нашей Грануш докладывает, где он прячется?
– Она все знает. Или может узнать, если захочет.
– Да она никогда мне не скажет.
– Даже ради моего спасения?
Защипало в носу. У Рено, и правда, никого нет, помимо нее. Татик ради князя и пальцем не шевельнет. Когда-то Констанция не смогла простить Пуатье, и ничего хорошего из этого не вышло. Достаточно Шатильон напуган и унижен.
– Рено, я умолю епископа Латакии заступиться за тебя, у него с греками хорошие отношения. И потребую, чтобы Бодуэн исполнил свой долг нашего сюзерена – выступил в твою защиту. Я буду молиться за тебя, Рейнальд. Но главное, склонись перед императором. Для автократора ничего нет важнее его гонора. Ради твоего поклона он все забудет и простит.
Шатильон уже отряхнулся от уныния, уже снова скалил зубы в волчьей ухмылке, руки уже проникли под ее сорочку, гладили тело жены, в голосе вновь слышалась насмешливая уверенность:
– Я знал, что ты меня не покинешь, что моя Констанция спасет меня. Может, я не святой и не могу равняться с прочими баронами смирением и покладистостью, но был бы я как все, я бы сейчас не с княгиней Антиохии обнимался, а с сапогами соседнего ратника на соломе донжона.
В холодном ночном воздухе доносился издалека узнаваемый бой любимых колоколов: привычно гудел гулкий, мощный бас Большого Петра, ему вторил надтреснутый звон Старой Урсулы и переливался серебряный благовест Сладкой Анны. На дворе залаяла собака, со стылых улиц ответили гавканьем и воем прочие псы, донесся унылый крик ночного сторожа. Констанция натянула беличье покрывало на мерзнущие плечи, вдохнула въевшийся в шкуру запах собственных благовоний и пыльную затхлость старого меха. Шатильон безмятежно спал, закинув руку за голову.
С самого начала она знала, что Рейнальд не чета остальным, что он иноходец среди меринов. Пусть он не такое доблестное зерцало чести, как Пуатье, зато он верен ей и любит ее. Может, не так, как она мечтала, лишь так, как умеет, но все же любит. Поэтому он не в донжоне, а в ее постели. Вот только кровь от сердца отхлынивает от страха при мысли, куда доведет всех их его необузданная, шальная безудержность.
Пропала Грануш. Напрасно Констанция гоняла Вивьена и слуг разыскивать ее по всему замку. Вечером взломали дубовую дверь мамушкиной каморки. Узкое ложе было аккуратно застелено чистейшим полотном, над изголовьем висели иконы и пучки душистой лаванды и розмарина. Лежал Псалтырь в серебряном окладе, нетронутыми оказались даже запоры окованных сундуков со спрятанными на дне – Констанция знала – золотыми монетами, предназначенными на похороны старушки и на заупокойные молитвы по ее душе. А татик как сквозь землю провалилась. Послали в армянскую церковь, в монастырь святого Георгия, на армянское подворье, прочесали весь рынок – напрасно. Черная желчь страшного подозрения захлестывала душу при воспоминании, что Рейнальд хотел выведать у мамушки укрытие Тороса. Но князь уже отбыл в императорскую ставку в Мамистру, да и не осмелился бы он тронуть няню княгини. А может, и осмелился. Никто не мог знать, на что он способен. Теперь Констанция не находила себе места из-за опасений за его судьбу и из-за тревоги за Грануш.
– Может, она куда-то уехала, родню навестить?
– Изабо, нет у нее никого, только мы. Она бы не исчезла, не сказав мне.
– Ну значит, украли эту ценность несказанную. Продали непорочную нашу Грануш в магометанский сераль.
На следующий день уже и Изабо не зубоскалила. Обыскали весь замок и город, опросили всех стражников. Констанция не выдержала, вместе с Изабо в сопровождении трех копейщиков спустилась в каземат. Свет факелов отражался в лужах мокрот и освещал лишь узкий проход, остальное подземелье тонуло в кромешной тьме. Окутала нестерпимая, плотная, как болотная жижа, вонь. Казалось, вместо воздуха княгиня вдыхала чужую грязь и мерзость. Представить, что чистая, безупречная, достойная мамушка Грануш, заменившая княгине Антиохии мать, могла попасть в этот ад, предназначенный для убийц, воров и сарацинских пленников, значило заподозрить, что княжеством правила уже не Констанция, а чужая, враждебная и безжалостная воля.
– Изабо, пойдем отсюда, я с ума сошла ее тут искать.
– Уж спустились, так проверим до конца.
Изабо продолжала поднимать факел и заглядывать сквозь решетку в каждую камеру. Значит, она тоже опасалась, что Рено был способен на подобное злодеяние.
Стиснув зубы, прижав к носу надушенный платок, Констанция нащупывала путь в темном, узком проходе. Из-за прутьев тянулись клешни рук, пытались ухватить край одежды, умалишенные узники делали оскорбительные жесты, выкрикивали поношения и проклятия. Тюремщику приходилось отпирать ржавые запоры, чтобы перевернуть валявшиеся в глубине камер недвижные тела, убедиться, что это клятвопреступники, разбойники или должники, а вовсе не татик – опора и любимица княгини. К счастью, Грануш в этом жутком месте не оказалось.
Констанция уже повернула обратно, упрекая себя за безумные подозрения, как на решетку бросилось обросшее космами существо в драных лохмотьях, выпростало руку, чуть в глаза ей не вцепилось, зашипело:
– Чтобы князю головы не сносить, чтобы ему самому гнить в каземате, чтобы ему света Божьего вовеки не увидать…
Тюремщик хлестнул узника по рукам, Констанция, не оборачиваясь, опрометью выскочила наружу, на свободу, на свежий воздух. Проклятия Рейнальду, в этот самый миг вымаливающему прощение у Мануила, застряли в ушах страшным предсказанием.
В главной зале наткнулись на растерянную даму Доротею.
– Мадам, – метнулась та к княгине, воздевая четки в заломленных руках, – сестра Тереза утверждает, что в монастырь кармелиток позавчера привезли какую-то старую армянку и держат ее втайне ото всех, под запором.
– Ваша светлость, – Изабо понизила голос, – если Грануш в монастырь отправил тот, о ком мы думаем, то лучше вам лично потребовать ее выдачи. И Бартоломео с его отрядом прихватите. Он хоть и болван, а ради вас любой монастырь в щепки разнесет.
В щепки разносить убежище кармелиток не пришлось. Обнаружив у ворот монастыря конный отряд в полном вооружении, аббатиса безропотно выдала княгине армянскую старуху. Всю обратную дорогу в паланкине Констанция держала безвольную, обмякшую, как пустой мешок, Грануш в своих объятиях. Пыталась ее расспрашивать, но несчастная, видно, от пережитого разумом повредилась: плохо соображала, ничего толком рассказать не могла, а может – не хотела.
– Грануш-джан, – настаивала Констанция, – тебя Рейнальд сюда привез? Он что-то выспрашивал? Про Тороса разузнавал? Что ты ему сказала?
Грануш охала и плакала, до синяков вцеплялась в руку Констанции, но ни в чем не признавалась. Передавая узницу, мать-настоятельница трясла клобуком и клялась, что доставленную женщину хоть и держали в келье взаперти и втайне, но не пытали, не обижали, ни голодом, ни жаждой не морили. А что с ней до этого делали, того мать Женевьева не ведала. Привез ее какой-то рыцарь, сказал: от княгини, постричь, мол, в монахини и не выпускать. Да, постригли, теперь она сестра Катарина.
На обратном пути княжий паланкин миновал Храм святого Георгия, княгиня велела свернуть в переулок. Распахнутые створки ворот армянской лавки висели на одной петле, дом стоял пустым и разоренным, посреди двора еще тлела сожженная голубятня. Констанция схватилась за горло, ей показалось, что в нее вонзилось каленое железо и выжгло дотла то место, где еще совсем недавно ютилась, кутаясь в оправдания и отговорки, ее неразумная любовь.
Никогда раньше мамушка не болела, всегда сама выхаживала всех захворавших. А теперь лежала на узкой постели, упрямо уставившись в потолок, лицо сморщилось и запало от усталости и боли. Констанция впервые заметила, как исхудала и постарела татик. Вместо упитанной, бодрой, решительной женщины, готовой спорить до хрипоты за мелочи и воевать до победы за существенное, на жестком тюфяке из свалявшейся морской травы покоилось невесомое старческое тельце.
Разумение все же вернулось к несчастной, ибо Всевышний не хотел, чтобы раба Божья Грануш ушла от своих близких, не простившись. Однако с разумением к татик вернулось и упрямство:
– Никто меня не пытал и не выпрашивал, не придумывай себе муку! Просто зажилась я на этом свете, всё, пора мне.
Как она, армянка, в латинский монастырь попала, не объясняла, запиралась в упрямом молчании, только псалмы твердила. От помощи Ибрагима наотрез отказалась:
– Нечего нехристю меня на пороге рая останавливать.
Ибрагим, поглядев на больную, и сам не настаивал:
– Высокородная госпожа княгиня, у достопочтенной мадамы Грануш нет больше желания жить, а в таком случае я бессилен.
Знахарь все же оставил питье, предназначенное облегчить телесные страдания, но мамушка сразу догадалась, что столь действенное зелье могло быть приготовлено только хитрыми нечестивыми руками, стремящимися лишить ее последних праведных мук на этой земле, и не пожертвовала ни каплей райского блаженства ради басурманской бурды. Уже двинуться не могла, а глаза все источали жалость, все ласкали напоследок Констанцию, все причитала, переходя на армянский:

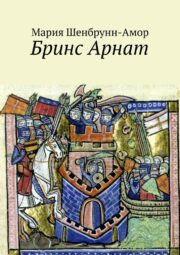
"Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад" друзьям в соцсетях.