Мария замерла, пораженная догадкой:
– Так вот почему император обошел меня! Чтобы не родниться с вашим бешеным Шатильоном!
Констанция отсчитывала капли имбирного эликсира в хвойный напиток. Ибрагима больше не было, Грануш лежала в сырой земле, даже Арам куда-то запропастился, а Филиппа кашляет и Агнессу по вечерам лихорадит. Мария покрутилась по комнате, не дождавшись ответа, воскликнула:
– Мадам, я вижу, вам все равно, что со мной случится!
– Да что с тобой может случиться, дочь моя? Найдется жених и для тебя. На Мануиле свет клином не сошелся.
– Но я хочу именно василевса! Вы, мадам, вышли замуж за кого хотели, почему же я должна отдать императора этой выскочке Мелисенде?
У Констанции давно не осталось ни сил, ни желания кого-либо утихомиривать:
– Потому что я была правящей властительницей княжества и могла сама выбирать супруга, а ты должна ждать, чтобы выбрали тебя, вот почему. Хоть ты и считаешь себя пенорожденной Афродитой, но своего у тебя – три простыни и две скатерти, Мария.
– Мадам, имея такой выбор, вы должны были выбрать лучше! Теперь из-за этого шального ничтожества я лишилась возможности стать императрицей!
– Десять… Одиннадцать… Двенадцать… – Констанция заткнула горлышко кувшинчика мягким воском, аккуратно вытерла руки. – Может, пойдешь и самому шальному ничтожеству в лицо заявишь, что это он у тебя империю украл?
Мария смутилась, но тут же нашлась:
– Это не он украл. Это всё эта серая моль Мелисенда! Я же помню, как василевс на турнире пожирал меня глазами!
– Мария, лучше молчи об этом, если не хочешь до пострига допрыгаться. Мануил в то время женат был! Тебе не добавляет чести, что ты сама тогда чуть не на колени к нему садилась!
Мария побледнела, раскрыла рот, но не смогла выдавить из себя ни звука, только бессильно ловила воздух губами. Констанция сразу пожалела о суровых словах, вскочила, перевернув целебную настойку, обняла дочь. Ах, Мария, прости, прости, душа моя! Так уж мы, женщины, устроены, что за любую собственную жестокость и измену нас мучает меньший стыд, чем за неудавшуюся попытку завлечь мужчину!
– Это я одна виновата, я должна была тебя удержать, остановить, но я же сама в материнском тщеславии надеялась, что если ты императору понравишься, он предложит тебе почетный брак с кем-то из свойственников. И это еще возможно, не отчаивайся.
Мария бросилась матери на грудь, обе разрыдались.
– Мадам, я не могу. Я умру, если Мелисенда будет императрицей, а я – простой дамой при ее дворе! Как он мог предпочесть мне ничтожную тихоню?! Как? Она же заморыш прибитый, взгляд косой, руки потные, ногти сгрызены, косолапая. И разве можно сравнить графство Триполийское с Антиохией?!
– Это не он выбирал, дитя мое. Это все происки короля, его вина. Василевс из учтивости его совета спросил, а Бодуэн уже позаботился сделать союз с Триполи неизбежным. Король давно нам больше враг, чем друг. Он и лекаря моего отказался спасти, и Рейнальда на произвол судьбы в Мамистре бросил.
Мария бросилась на колени, обхватила ноги матери:
– Милая мама, неужели ничего нельзя поделать?
– Ничего, дочь моя. Нечего и мечтать, чтобы император породнился с Шатильоном.
Хоть и ответила так дочери, сама тоже не могла смириться с крахом всех надежд. И права Мария, все это – вина Шатильона. Из-за необузданного и неистового Рейнальда Антиохия теряет союзников и силу, превращается в изгоя, из-за князя в последние годы Констанцию и ее близких поражают одни несчастья и невзгоды!
Только глупая Филиппа, на три года младше сестры, простодушно недоумевала:
– Да этот Мануил – старикашка невзрачный! Он же тебе даже не нравится!
Из замурзанного сорванца Филиппа превратилась в милую, покладистую, светловолосую девушку с привлекательным круглым лицом, длинными ресницами и нежным ртом. Ее прелесть была блеклой копией яркой красы Марии, и нрав ее тоже был тихой заводью по сравнению с горным водопадом старшей сестры. Филиппа целыми днями мечтала о любви, распевала трогательные шансон де фам, плела венки и тоскливо вздыхала: жизнь ее проходила попусту вовсе не потому, что в ней не хватало поклонения и власти, а потому, что ей уже целые тринадцать весен миновало, а ожидаемый прекрасный рыцарь все мешкал и мешкал. Но морщинистый и плешивый Комнин, да будь он хоть властителем всего подлунного мира, ей и задаром не был надобен. Щеки Марии вспыхнули от злости:
– Филиппа, ну что ты вообще понимаешь?! Это тебе нужно миловидное как серафим, ничтожество, лишь бы сочинял любовные кансоны, падал на колени и клялся в страсти. Какая разница – нравится мне Багрянородный самодержец или не нравится?! Мне в тысячу раз меньше нравится, что весь Утремер возложил чаяния на эту блеклую тень, что не я, а ничтожная Мелисенда будет правительницей Ромейской империи!
– Мелисенда вовсе не блеклая! Она красивая и славная девушка!
По мнению Филиппы, сестра не в меру гордилась собственной внешностью и совершенно напрасно отказывала всем остальным девицам, сестер включая, в праве нравиться мужчинам.
– Ничего себе будущая императрица! – Мария сгорбилась, вздернула плечи, скосила шею набок, исподлобья уставилась на Филиппу диким испуганным зверьком, руки ее судорожно зашарили по юбке и лифу. Сестра не удержалась, захохотала:
– Злючка ты, Мария! Если бы хоть что-то из того, что ты о ней говоришь, было правдой, василевс уже давно бы от нее отказался. Говорят, его посланники выпытали о ней всё, ей даже пришлось дохнуть на каждого, и византийские медики ее нагую обследовали. Ничего: ни косоглазия, ни вшей, ни потливости – ничего из того, что ты о ней рассказываешь, не нашли. Да пусть она будет себе на здоровье императрицей. Подумаешь! Это же не настоящая правительница, один титул. Вся тоскливая жизнь василиссы проходит в терпеливом присутствии на занудных церемониях и службах, а по ночам еще, представь, этот сморчок Мануил…
– Ах, Филиппа, ты просто невыносимо глупа! Уж поверь мне, я бы не стояла византийской иконой! Я бы родила наследника и управляла всей империей! Весь мир был бы в моей власти!
– Признайся, тебе просто обидно, что, хоть ты и из кожи вон лезла, а василевс предпочел другую.
Мария гремучей змеей метнулась к сестре и вцепилась ей в волосы. Та едва сумела вырваться. Нет, правильно Бог бодливой корове рог не дает. Сама же Филиппа отдаст сердце и руку только достойному, необыкновенному и прекрасному собой герою, который полюбит ее навеки!
Влетало и даме Доротее, осмеливающейся умильно призывать Марию к христианскому смирению и любви к ближнему. Один Шатильон, всему причина, продолжал делать вид, что ему все нипочем.
Констанция часами сидела без движения, уставившись в окно невидящими глазами, играла перстнями, тайком плакала, не спала ночами. Господи, неужто невиданная честь и спасительное родство с могущественной Византией – все утечет графству Триполийскому?! В чем заключается долг матери и правительницы? Разве не сказано: «Не устоят нечестивые на суде, и грешники – в собрании праведных»? Нечестивый этот – супруг ее, Рейнальд де Шатильон, князь Антиохийский, ею возвышенный. Это его – «разбойника жестокого, неразумного и неистового» – предсказала Марго, только Констанция слепа была. Он превзошел меру в злодействах своих, и о нем повелел Господь: «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Ведь сказал царь Давид: «Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие», и предупреждал псалмопевец: «Кровожадного гнушается Всевышний».
Она молилась за него, но никто не может молиться вместо другого. Она клялась быть с ним в горе и в радости, но еще раньше клялась защищать беспомощных и спасать Утремер. А ее обритая голова ни Грануш, ни Ибрагима не спасла, и впредь Антиохию не защитит.
Что станется с человеком, который перешел дорогу императору, королю, патриарху и собственному семейству? Многажды битый пес продолжает любить хозяина, но когда-нибудь даже он нападет на своего мучителя и перегрызет ему горло.
Часть III
Пленник
Мы скрепили наше Соглашение кровью, Иерусалим. Я освобожу узников твоих из ям…
В конце ноября 1160 года Господня, незадолго до дня святой Екатерины, Шатильон с армией отправился на бывшие Эдесские земли, в горы Мараша, и промышлял там неподалеку от Балинаса-Баниаса. Он уже возвращался со стадами тучных коров, табунами скаковых лошадей и отарами длиннорунных овец, отбитыми у местных землевладельцев: армян, сирийцев и туркменов, – когда на его ополчение напали сарацины. Многие воины погибли, а сам Рено с несколькими рыцарями был пленен правителем Алеппо Маджд ад-Дин ибн Ад-Дайем, сводным братом Нуреддина.
Вот и распахнулись перед ним ворота Алеппо, вот и поднялся он по узким улицам к цитадели, да только не так, как надеялся. Все жители города высыпали полюбоваться унижением франков. Под барабанный бой, звон тимпанов, пронзительные завывания свистулек и истошные вопли черни тянулись латиняне вдоль глухих глиняных стен. Кони тащили по грязным колдобинам подпрыгивающие в жуткой пляске обезглавленные тела, а отрубленные кровоточащие головы погибших мотались на пиках. Оставшихся в живых сарацины усадили попарно на верблюдов и вложили в прикрученные за спиной руки неразвернутые знамена с болтающимися на них скальпами мертвых товарищей. Волочился в дорожной пыли разодранный красно-синий штандарт Антиохии, бурая кровь залила четыре вздымавшихся башенных зубца на червленом поле баннера Шатильона. Нехристи вытирали ноги о поруганные штандарты, плевали и выплескивали на них ночные горшки и помои, а спотыкающуюся вереницу связанных по двое пехотинцев, сержантов и ратников забрасывали гнилыми фруктами.
Князя Антиохии заставили брести привязанным к хвосту облезлого верблюда. Пронзительная музыка, гортанные, хрипящие чужеземные крики и отвратительное варварское улюлюканье раздирали уши, перед залитыми кровью и потом глазами мелькали верблюжьи и лошадиные крупы, в раны и ссадины лезли жирные навозные мухи, со лба стекала гнилая мякоть персика, в плечо ударил ком грязи, мимо виска просвистел камень, туго скрученные веревкой руки тянула и дергала шелудивая скотина. Шатильон не уклонялся от ударов, только утирал лицо о плечо и шел, опустив голову, чтобы не видеть злобных басурман и поруганные останки соратников, еще утром скакавших бок о бок с ним, да старался не упасть, когда верблюд внезапно пускался рысью. Не хватало правителю Антиохии тащиться по земле на глазах у обрезанных собак. Висеть мочалом на пике перед алеппским сбродом – невеселый жребий, но Рено был готов к гибели так же, как и к победе, а вот к унижению и позору рыцарь не может подготовиться.
Во главе процессии гарцевал на гнедом коне высокий, худой, смуглый, с выбритыми щеками и жидкой козлиной бороденкой атабек Алеппо Махмуд Нуреддин, позади скакал его молочный брат, правитель Дамаска Маджд ад-Дин, в пурпурном кафтане и белоснежной чалме с золотой вышивкой, украшенной огромным изумрудом. Уздечка и стремена его жеребца сияли чеканным золотом, переливалось сплошь расшитое жемчугом седло. Рено только зубами скрипнул при виде своего Монэспуара, болтающегося на боку нехристя. За Маджд ад-Дином следовал его наследник Аззам ибн Маджд ад-Дин. Как полагалось знатному эмиру, его голову тоже венчал белый с золотом тюрбан, а с плеч спускался зеленый бурнус с алой подкладкой. Нуреддин же, напротив, выглядел простолюдином в простом серо-буром полосатом халате, на коне, покрытом невзрачной шерстяной попоной. Величия в атабеке Алеппо было не больше, чем мужественности в евнухе, лишь саблю украшали драгоценные каменья. Однако даже франки не путали повелителя с его роскошно одетыми придворными, потому что обожание и преклонение толпы указывало на него, как свет зари – на восток.
Голова кружилась от жажды и ноги подкашивались от усталости, тошнотворно воняли испражнения, которыми облили пленных, но надо было собрать последние силы, чтобы достойно встретить любую участь, даже мучительную смерть: сарацины нередко приволакивали христианских воинов в свои города, только чтобы бросить их кровожадной толпе на растерзание или использовать как мишени для лучников.
Верблюд резко остановился. Нуреддин заговорил – негромко, спокойно, и толпа замолкла, внимая каждому слову. Некоторые слова и Рено уловил: «Аль-Малик аль-Адил… муджахид… Аллаху Акбар… Йа мансур! О победоносный! Джихад…» Всякий раз после них слушатели разражались восторженными криками. Упоминал то и дело и имя самого принца Рейнальда, в устах басурман исковерканного в Бринса Арната. Множество бородачей вокруг записывали речь султана, все исступленно радовались. Не каждый день удается захватить второго по знатности принца франджей – самого разбойника Бринса Арната! – и протащить его со скованными ногами по грязи и навозу! Оказавшийся рядом оруженосец Альберик перевел Шатильону слова атабека:
– Проклятый сельджук сам себя называет собакой! Кто, мол, этот аль-калаб Махмуд, чтобы заслужить такую победу?! Аллах, мол, дал эту победу исламу, а не Махмуду!

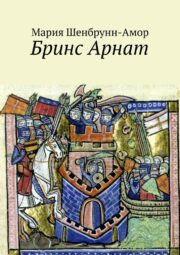
"Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад" друзьям в соцсетях.