Осенью стало вовсе невмоготу. Без перемен, одна, забытая всеми, Констанция пропадет, сгниет, завянет, зачахнет. Аббат Мартин посоветовал сходить в Град Мученичества Христова, помолиться на Гробе Спасителя, и мысль о паломничестве вторглась во тьму прозябания ослепительным лучом. Туда всегда спешил король, туда увезла Беатрис сладострастную Агнес, туда, не оглядываясь, ускакал Шатильон. В Иерусалиме текла настоящая, яркая, счастливая жизнь, и душа рвалась к ней из затхлого склепа вдовства. Счастья хотелось, как цветку света, как путнику привала, как дождя земле.
В Иерусалиме о Констанции тоже помнили. Едва миновал год траура, из столицы потекли настойчивые предложения новых брачных уз. Констанция твердо решила, что если выйдет замуж еще раз, то только за того, кого полюбит так, как любила Пуатье, и кто тоже полюбит ее всем сердцем. Она заслужила это право, она суверенная княгиня и никому, кроме Господа, не подвластна. Вслух, правда, помалкивала, потому что Изабо не поняла бы, зачем брак для любви, а все остальные не поняли бы, зачем любовь для брака. Но из-за слабости княжества наотрез отказывать Иерусалиму не смела, лишь отмалчивалась и отнекивалась. А королева Мелисенда настаивала, угрожала лишить племянницу поддержки и защиты. Изабо, тоже рвавшаяся в столицу, с детской хитростью уговаривала пуститься в путь.
– Мадам, надобно бы взглянуть на женихов. Хоть один да непременно приглянется, – истово уверяла женщина, которой нравились все, кроме собственного супруга. – А нет, так не поволокут же княгиню Антиохии к амвону насильно.
– Изабо, Мелисенда может на плаху заставить взойти.
Впрочем, Констанции и самой казалось, что в Иерусалиме все прояснится, а что все – и сама не могла сказать. Вспоминала завлекающий взгляд, брошенный Агнес на Шатильона, его небрежный ответ, белозубую улыбку, темный ежик волос – и щеки пылали зарей. Надобно было ехать.
Безопасней всего добираться морем до Яффы, оттуда до Святого города два дня пути. Собрались в дорогу сразу после дня великомученика Киприана и мученицы Иустины.
Восточное окно октябрьского дня едва серело, когда Констанция прощалась с детьми. Мария, прелестный ангел, с всклокоченными волосиками, с отпечатавшимися на пухлой щеке складками подушки, обняла материнскую шею теплыми ручками. Крошечная Филиппа мирно дремала на руках у кормилицы, Констанция поцеловала ее веки, погладила мягкие локоны. Столько несчастий обрушилось на их семью с рождения Филиппы, что малютке почти не досталось материнской любви и ласки. Вид детей всегда укорял, а сейчас, когда расставалась с ними до весны, скрутило от вины. Но даже ради них она не может прозябать тут и дальше. Пока жива-здорова татик, чада будут присмотрены и любимы.
Шестилетний Боэмунд понимал, что мать уезжает надолго. Кровь Раймонда уже являла себя – дни напролет сын упражнялся в стрельбе из арбалета, махал мечом и скакал по двору на буланом Фаэтоне. Когда-нибудь он станет надежной опорой и поддержкой. А пока маленький воин крепко обхватил Констанцию, прижался к ней в страстной немой мольбе. Бо говорил редко, стеснялся заикания.
– Ты ведь всегда будешь любить мамочку, правда, аревс, солнышко мое?
Страстно расцеловала своего крохотного защитника, пропустила мимо ушей вечное мамушкино ворчание: «Скверная мать, сидела бы с детятами, чем по белу свету мотаться», в последний раз благословила отпрысков. Вот возвратится и непременно посвятит себя детям.
Последние наказы, еще одна молитва покровителю путешественников святому Христофору – и кавалькада тронулась в путь. Татик на счастье плеснула вослед воды.
День занимался пасмурный и свежий. Порывы сырого ветра доносили колокольный звон утренней службы, ранний покой вспарывало звонкое эхо собачьего лая и редкие пронзительные птичьи свисты из зарослей олеандров. Ночью прошел ливень, ветер морщил рябь луж, копыта чавкали в дорожной грязи, Каприза фыркала теплым паром, звенели удила, с придорожных ветвей на низко надвинутый капюшон и плечи Констанции падали холодные капли, даже в перчатках мерзла держащая поводья рука. Рядом тряслась и тараторила Изабо, счастливая, что скука Антиохии и постылый Эвро отдалялись с каждым шагом, шумно зевал паж Вивьен, топтали хрупкую зыбь осеннего утра грубый бас и оглушительное сморкание Бартоломео. Скрытые серебристым туманом скакали позади придворные дамы и рыцари, за ними тянулись оруженосцы, валеты, священники, тащился на плешивом муле ибн Хафез. До гавани Сен-Симеона отряд провожали вооруженные стражники.
В порту ждала нанятая венецианская трирема. Констанция со свитой взошла на борт.
Влажный, соленый морской ветер трепал одежду и волосы, пронзительно вопили чайки, прекрасная, сияющая синевой и золотом трирема качалась на волнах, звенел такелаж, оглушительно трещал парус, трепетал вымпел со львом святого Марка. Все будоражило и тревожило, предзнаменуя новую, иную, лучшую жизнь. Женщины устроились на носовой надстройке палубы, подальше от смрада и взглядов гребцов. Смуглый, бородатый капитан Антонио кричал на матросов, сопровождал приказы взмахами волосатых рук, украшенных кольцами, увешанных серебряными браслетами, но даже его непонятные проклятия казались княгине дивной музыкой.
Трирема двигалась вдоль гористого зеленого берега. Венецианский капитан облокотился на поручни рядом с дамами, ветер надувал его рубаху, облеплял худое, мускулистое тело, доносил хищный запах пота. Длинные черные с проседью кудри были перевязаны платком, в ухе качался обод золотой серьги, глаза сверкали и смеялись, белая улыбка, в которой не хватало бокового зуба, прорезала смоляную бородку.
– Я эти берега впервые еще мальчишкой увидел, – в иноземных распевах капитана слышался отзвук прекрасного, далекого, огромного и удивительного мира. – Тогда сам дож повел нашу непобедимую армаду к берегам Палестины. Триста галер, пятнадцать тысяч маринайо, все отчаянные, как я сам, – понизил голос, чуть-чуть придвинулся, в широком вырезе рубахи бился о смуглые ключицы кожаный шнурок с ладанкой. – Ну может, не все, беллиссима принчипесса. Таких, как я, вообще мало, клянусь вам как маринайо и честный человек!
Стрелял глазами, смеялся, закидывал голову, обнажая кадык. Констанция слегка отодвинулась, продолжая вынужденно улыбаться. Италийцы славятся своей фривольностью, а если Изабо продолжит так заглядываться на бравого моряка, ее смоет волной.
– Дож отрядил восемнадцать наших галер увлечь за собой египетские корабли от Аскалона к Яффе. Эх, миа карина принчипесса! Видели бы вы меня тогда – кожа да кости, но молод и отчаян! С одного взгляда я покорил бы ваше сердце!
Мужчинам каждая одинокая женщина кажется доступной добычей. Ничто их не останавливает: ни разница в положении, ни траурное одеяние, ни собственная седина. Вот и Антонио явно считал, что полонить вдовую княгиню так же легко, как и египетский флот.
Бартоломео д’Огиль перегнулся через поручень и мучительно содрогался, извергая съеденное накануне в морские недра. Изабо губы искусала от бессильной ярости: этот неуклюжий солдафон еще и в плавании расклеился! Женщина, как известно, хороша лишь настолько, насколько хороши ее обожатели, и жалкий воздыхатель непоправимо ронял престиж мадам де Бретолио. Сухопутному увальню не простится этот постыдный приступ морской болезни на глазах у шармантного венецианца! А навязавшийся на ее голову злосчастный поклонник вдобавок побрел прямиком к ней, качаясь и придерживаясь за снасти! Изабо от него отвернулась, заулыбалась ловкому Антонио, скользящему по палубе с ловкостью базарного канатоходца.
– Ах, капитан, вы и сейчас хоть куда!
Морской волк тут же сменил курс с недосягаемого княжеского флагмана на ее беззащитный галеон:
– О, белиссима донна Изабелла, мы притворились, что пытаемся скрыться бегством, навалились на весла и помчались в открытое море! Эти маскальцони-египтяне неслись за нами, как портовые путаны за маринайо!
Капитан выжил, и ему было приятно потрясать прелестных донн подвигами юности. Но Бартоломео не собирался уступать прекрасную даму своего сердца ничтожному итальяшке. Серый от недомогания, едва держась на ногах, д’Огиль запальчиво просипел:
– Драться на море – занятие для трусов! Истинный воин должен сражаться только на суше и верхом! В этой поганой воде от благородного человека ничего не зависит! В любой момент может начаться буря, и чертовы суденышки пойдут на дно. А чего стоит одна коварная морская немощь, перед которой бесполезна вся рыцарская отвага и сила? – сморщился, сглотнул с усилием. – Клянусь, я скорее в монахи пойду, чем снова взойду на борт!
Бартоломео в который раз мучительно скорчился над водой, и Антонио победно заломил бровь:
– Египетские суда громоздкие и неповоротливые, но мы нарочно медлили, подпуская их, чтобы прочнее увлечь за собой. Эти фильи де путана уже вовсю ликовали, дождь их стрел уже пенил воду за кормой, когда вдруг горизонт застлала остальная венецианская армада! Наши юркие, поворотливые галеры отрезали египтян от берега, и мы обстреляли их греческим огнем из гигантских арбалетов. К вечеру весь фатимидский флот покоился на морском дне.
Изабо восхищенно ахнула, Антонио наслаждался произведенным впечатлением, а Констанция вглядывалась в свинцовые воды. Где-то там, в неизмеримой глубине, гнили останки кораблей, лежали в иле объеденные рыбами скелеты утопленников. Ничуть не лучше, чем быть захороненным без головы.
– Ваш дед Бодуэн II, прекрасная принчипесса, предложил нам вместе отвоевать либо Тир, либо Аскалон. Дож выбрал Тир, и мы осадили гавань с моря, а франки одновременно напали на город с суши.
– А почему Тир?
– Тирский порт несравнимо удобнее, и через него идет торговля с Дамаском. А в Аскалоне что? Нищий берег, мелкое побережье и открытый рейд?
– Можно подумать, вы одни Святую Землю завоевали! – прогудел Бартоломео, распрямляясь и утирая рот.
– Без нас ничего бы у ваших героев не вышло! Даже Иерусалим взяли только с помощью генуэзцев! Наши флотилии незаменимы – невозможно владеть Утремером, не владея морем! Недаром египтяне строят свои корабли по образцам наших галер и греческих дромонов. Но их оснастка нашей и в подметки не годится. И где им в пустыне взять корабельный лес и железо?
– В самом деле, где? – Бартоломео сплюнул в волну. – Вы, главное, им не подсказывайте, глядишь, сами тупоумные обрезанные собаки и не догадаются, кто тут за магометанское золото родную мать в султанский гарем продаст!
Антонио намек франка не смутил:
– Допустим, – сверкая браслетом, взмахнул обезьяньей рукой с длинным ногтем на мизинце, – допустим, нашлись бы на белом свете пронырливые поставщики, но – пусть прелестные дамы не подумают, что их мильоре амико Антонио хвастается! – откуда басурманам взять опытных капитани?!
Бартоломео заметил завороженный взор Изабо, поправил меч, прогудел укоризненно:
– Чего стоят умение и опытность людей, на верность которых нельзя положиться?
Очень многого стоит верность, которую приходится покупать по рыночной цене. Мореплаватели-торгаши неизменно умудрялись взыскивать с франков непомерную плату: треть всей добычи, треть Тира, в каждом городе королевства свой квартал с церковью, пекарней и термами, лучшие угловые места на базарах, право во всех сделках использовать собственные меры и весы. Но без них было не обойтись: Бартоломео верно заметил – франкские рыцари воевали только на суше и только верхом. А поскольку глубь материка занимали непроходимые для конских копыт пустыни, Утремер и протянулся по кромке моря, где флот был незаменим. Д’Огиля снова скорчило над кормой, и Антонио вдругорядь торжествующе завладел вниманием дам:
– Больше года наши галеры блокировали Тир со стороны моря, а когда город наконец пал, даже я, мальчишка, разжился настолько, что смог купить себе суденышко! В честь своей возлюбленной Венеции нарек ее «Серениссима», и с тех пор все мои корабли крещены одним именем с жемчужиной Адриатики.
Ворвавшись в город, моряки безжалостно вырезали и грабили жителей, нарушая обещания франков щадить сдавшихся, а если бы кровососы не заламывали с паломников несусветные деньги за каждый клочок палубы, Утремер давно бы заселили правоверные христиане.
– Вы, торгаши, не цените то, что нельзя продать! – Бартоломео распрямился, протер измученное лицо полой плаща. – На неосвященной гостии даю зарок сожрать собственную перчатку без соли, если я когда-либо опять ступлю на корабль! Святая Дева Мария, я подарю твоей иконе новый серебряный оклад, если ты вернешь меня на твердую землю!
– Мессир д’Огиль, – Изабо отпрянула, обмахиваясь концом покрывала, – не могли бы вы перейти на корму, все-таки мы с княгиней от вас с подветренной стороны!
Посудину качнуло, бедняга Бартоломео едва не шлепнулся, но успел ухватиться за мадам де Бретолио и в падении порвал ее новую бархатную юбку. Поднимаясь, учтиво заверил:
– Бартоломео лучше за борт бросится, чем вызовет ваше неудовольствие!

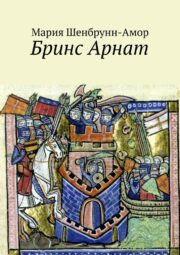
"Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад" друзьям в соцсетях.