Он кивнул. Бросил последний взгляд на несчастную Лелию, развернулся и, понурив голову, пошел к лифту.
Лелия стонала и старалась удержаться за меня, чтобы не упасть, отчего я сам чуть не терял равновесие. Иногда она на несколько секунд замолкала и даже переставала дышать, и тогда я крепче прижимал ее к себе, начинал разговаривать с ней, машинально гладил ее сильными повторяющимися движениями, на что она отвечала низкими утробными звуками, криками и проклятиями. Из проезжающей мимо уборочной машины выглянул водитель и поехал дальше.
— Вы «скорую» вызвали? — быстро спросил я.
Она кивнула и поморщилась.
— Сосед.
— Все хорошо, дорогая, все хорошо, — стал успокаивать ее я.
— Я так рада, что ты пришел, — едва слышно сказала она, не поднимая головы. — Ты мне был очень нужен. Ричард, ребенок… сколько уже недель?
Она подняла на меня умоляющий и беспомощный взгляд. Я не понял, что она имеет в виду.
— Где же они? — нетерпеливо сказал я, глядя по сторонам и прикидывая, смогу ли я сбегать за своей машиной. — Давай вызовем такси.
Пока я кое-как набирал нужный номер на мобильнике, она отвернулась к двери, я погладил ее по спине. Ниже по улице показалась машина с оранжевым огоньком, она притормозила, чтобы развернуться.
— Такси! — отчаянно закричал я. Вставил в рот пальцы и пронзительно свистнул. Оранжевый огонек погас, и машина подъехала к нам.
Я торопливо усадил Лелию на заднее сиденье, не обращая внимания на недовольные взгляды водителя, и включил кондиционер на холодный воздух.
Она сползла с сиденья на пол, цепляясь за меня, так что мне пришлось скрючиться рядом с ней. Она отвернулась и прислонилась к сиденью. Застонала.
— Знаю, знаю, — сочувственно сказал я. — Дорогая, ты такая смелая. Держись. Хорошая девочка. Такая смелая. Скоро приедем.
— Она бросила меня, — сказала Лелия, глядя на меня безумными глазами.
— Кто? А… — Мимо нас в противоположном направлении пронеслась машина «скорой помощи».
— Она… понимаешь… она бросила меня там. Одну. Не дала мне позвонить в больницу.
— Что?
— По-моему, она тоже не позвонила. Она могла же убить… ведь еще слишком рано… Как больно.
— Она знала, что ты рожаешь?
Лелия издала длинный хриплый крик вместо кивка, вжавшись головой в сиденье.
— Воняет. От этого сиденья воняет, — превозмогая боль, она повернулась ко мне.
Я поцеловал ее заплаканные щеки, обнял под мышками и вжался между ней и сиденьем. Мне хотелось слиться с ней телом, чтобы принять ее боль на себя.
— Она тебя оставила в таком состоянии? — прошипел я.
— Да, — ответила она.
Мои мысли, запущенные в одном направлении переменчивыми представлениями о реальности Сильвии, теперь с такой же сумасшедшей скоростью понеслись в обратную сторону, отчего я еще раз содрогнулся.
— Она сумасшедшая, она сумасшедшая, — мой голос едва не сорвался на фальцет.
Лелия собралась и, прижимаясь ко мне, села на корточки, схватила меня за руку, когда машина поворачивала. Водитель включил «Радио «Кэпитал»».
— Милая моя, мы уже подъезжаем, — говорил я, крепко сжимая в своих руках ее тело, стараясь облегчить ей вес, просунув свои колени у нее под ногами.
— Она сумасшедшая.
— Я знаю, я знаю.
— Почему тебя так долго не было? — Глазами, полными волнения и отчаяния, она посмотрела на меня. Ее голова билась о мое плечо.
— Она только что мне сказала.
— Где ты был?
— У реки. С ней…
— У реки? — бездумно переспросила она, новый крик уже готов был исторгнуться из нее.
— Она обманула меня. Но она уже ушла, ушла. Все. Больше мы ее не увидим.
— Мне было так страшно.
— Слышишь? Ее больше нет. Я больше никогда не буду с ней разговаривать. Она… мы больше ее не увидим, клянусь тебе. Извини.
— Обманула… — простонала она и покачнулась.
— Я знаю, любимая, — я снова подхватил ее под руки. — Она…
— Это ты обманул, — морщась от боли, слабым голосом сказала она. — Ты мне… изменял. Ты чертов… ты… Я была беременна.
— Да, — покачал головой я. — Извини…
— Чем вы занимались у реки? — гневно спросила она, цепляясь за меня руками. Глаза у нее широко раскрылись и казались испуганными.
— Я… — сказал я, посмотрел на пол, потом на нее, почувствовал, как на шее дернулся кадык. Она видела меня насквозь, даже несмотря на ужасную боль, она видела меня насквозь.
— Чем? — выкрикнула Лелия.
— Извини меня, — пробормотал я. — Это больше не повторится. Ее больше нет.
Она повернулась ко мне. Рот раскрыт. Кожа, и так мертвенно-бледная, побелела еще больше.
— Она для меня ничего не значит, — в отчаянии затараторил я. — Она просто скучная маленькая…
Лелия громко рассмеялась. Ее безудержный дикий смех превратился в скорбный вопль.
— Нет, — она отвернулась. Еще раз хохотнула и заплакала. Потом резко повернулась ко мне и до боли сжала мне руку. Глаза ее как будто смотрели сквозь меня. Расслабленные губы сложились в непривычную и пугающую фигуру. Она громко застонала и согнулась пополам, выгнув спину, как кошка.
Ее дыхание сделалось шумным.
— Не может быть, — наконец произнесла она напряженным тоненьким голосом.
— Извини, — сказал я и обнял ее. Погладил по спине. Въезжая на остановку перед больницей, машина качнулась, и я обхватил ее за талию. — Лелия. Любимая. Ты ведь тоже… — начал было я, но осекся. — Слушай, нельзя сейчас это обсуждать. У нас еще будет время об этом поговорить.
— Замолчи, замолчи! — закричала она. — Не сейчас. Ах ты подлец. Не сейчас.
Водитель открыл дверь, и Лелия качнулась к выходу.
Деторождение оказалось процессом, откровенная жестокость которого требовала уединения в лишенном окон помещении, где эхом стонов Лелии по коридору разносились крики других агонизирующих женщин. Мою любимую подключали к датчикам, обвязывали ремнями и просвечивали; ей делали уколы, в нее влезали руками и засовывали в рот лекарства, пока удивительно допотопные машины выплевывали бесконечные ленты исчерченной миллиметровки, а австралийцы в белых халатах с клипбордами в руках то входили в палату, то выбегали из нее, и только лишь невозмутимый доктор, похоже, точно знал, какие из слабых толчков сердца эмбриона и внезапных выделений можно было считать нормальными, а какие — проблемными, в то время как сама Лелия на протяжении всей серии пыток то тряслась, то блевала.
В полубессознательном состоянии она кричала, поминая то своего ребенка, то какого-то другого ребенка, непонятного младенца из ее прошлой жизни, и какое-то время я с волнением задумался, а не наделяет ли она человеческими чертами тех недоразвитых зародышей, которых ее тело отторгло раньше. Она проклинала Сильвию, но уже в следующую секунду звала ее; она проклинала меня, сообщая мне, что я лжив, жесток и вообще свинья; она грубо отталкивала меня; она тянула меня к себе и говорила, что любит меня и всегда любила больше всех. Она осыпала Сильвию, меня, нас с Сильвией и даже свои собственные отношения с ней такими ругательствами, которых я никогда раньше от нее не слышал, — это был какой-то чужой язык, средневековый, примитивный и дикий. Когда боль становилась такой сильной, что она впадала в ступор и переставала узнавать медперсонал и меня, на нее снисходило спокойствие, и тогда она начинала бормотать что-то бессвязное про своего отца, про кого-то по имени Агнес. Она произносила и такое, к чему я прислушивался внимательнее, просила прощения и обещала не оставлять ребенка. Из ее отрывочного и монотонного бормотания, похожего на молитву, можно было понять, что она пыталась дать какую-то клятву.
Я не сводил с нее глаз, как зачарованный, следил за ней с восхищением и удивлением. Она представлялась мне троянцем, мужественным воином, наделенным прекрасным диким и чистым духом. Иногда, отвлекаясь от ее печального состояния, я думал, что вот мы, Лелия Гуха и я, находимся вместе в одной комнате, и это все, что мне было нужно. Я начинал исступленно молиться всем богам, которых знал, начиная от бородатого старика и столь противных ему лесных духов и местных божков, почитаемых моими корнийскими соотечественниками, и заканчивая неким размытым облаком концентрированной мысли, которое рождалось, когда я попадал в трудные ситуации. Я немного поплакал. «Спасибо», — сказал я, и тихонько оттарабанил коротенькую молитву во спасение ребенка.
Однако до сих пор к ребенку у меня еще не сформировалось какого-то определенного отношения. Мне не хотелось, чтобы Лелия все свои чувства отдала ему. Я понимал, что чем дальше ее тело выталкивало его из себя, неумолимо подгоняя гормонами, тем все более слабыми становились мои позиции в ее сердце.
Несмотря на волнение за судьбу неведомого создания, подогреваемое перешептыванием врачей по поводу его неровного сердцебиения и ранних сроков Лелии, хоть я еле сдерживал слезы, поддерживая ее голову, когда она, вся в крови и покрытая пятнами, блевала над картонной коробкой, оборонительную стену моего сострадания прошили несколько нездоровых, неуместных и эгоистичных мыслей об организации похорон и необходимости покупать цветы. Бессмысленное и какое-то мелкое чувство досады брало меня, когда я думал о том, что мой ребенок родится не как планировалось, в самом центре Лондона, а здесь, на южном берегу. Еще более не к месту искаженное потугами лицо Лелии в один из тех моментов, когда я безжалостно отвлекся от ее мук, напомнило мне пушистого щербатого монстрика из утренней детской телепередачи. Но хуже всего то, что у меня возникло сильное, почти маниакальное желание взять отложенную кем-то из подсобных рабочих больницы газету и посмотреть, чем сейчас живет белый свет, такой огромный и прекрасный. Время от времени мне просто хотелось уйти куда-нибудь подальше от этой затянувшейся драмы и часок соснуть.
Она тужилась, громко и зло стонала. Группа врачей теперь собралась у одного края кровати, а я, стоя с противоположной стороны, как рулевой, поддерживал и направлял ее. Потом я увидел нечто удивительное. Крошечная головка, пучок спутанных темных волос на человеческом скальпе показался на секунду и тут же снова исчез из вида. Это был человек, живое существо мелькнуло между ног Лелии. Врач поднес к ее влагалищу инструмент, похожий на вантуз, быстрым движением они безжалостно рассекли ее измученную плоть, на открытую рану хлынула кровь, она дернулась, и на свет снова показался этот человечек, под истошный крик Лелии он выскользнул из нее на руки склонившихся медиков, задержавшись в плечах… и у него было лицо. Я был не то что удивлен, а поражен тем, что у него было полностью сформировавшееся человеческое лицо. Я наклонился к Лелии, которая часто и мелко дышала и, как ни странно, улыбалась. Затем, пока врачи возились у раковины с полотенцами и какими-то трубками, время как будто сжалось, а потом оказалось, что в палате появился еще один человек. Родился новый человек. Слишком маленький и раньше положенного срока, но здоровый. Я изумленно смотрел на него, никак не мог поверить в то, что у него настоящее лицо, что он оказался не квелым лысым и безликим розовым непонятно чем, а вощеным живым существом, да еще и с лицом. У него были брови, словно нарисованные фломастером на сморщенном лбу, рот в виде крохотного фиолетового бутончика, мокрые вьющиеся волосы и маленькое гладенькое пузико, которое часто сжималось. У него было такое красивое лицо.
Ребенка дали в руки Лелии. Она стала матерью. «Черт», — подумал я. В моих глазах она вдруг повзрослела, переродилась, надо мной медленно возносилось высшее существо, наделенное женскими чертами, почти потерянное мною; суть, обладающая силами, недоступными мне. Но здесь же был и некто третий, уже не связанный непосредственно ни с кем из нас, который изменил все вокруг. Это была девочка. Я расплакался, как большой теленок, во весь голос, я плакал оттого, что видел перед собой такую идеальную красоту.
23
Ричард
«Индианка должна была возвращаться в город, в котором над могучей рекой звонят колокола. Ночью она пришла ко мне и теперь стояла передо мной, прекрасная, как распустившийся цветок. Я прижалась лбом к ее щеке, у меня уже не оставалось сомнений, что маленький розовый кусочек ее сердца принадлежит мне. Ее горящие глаза, два продолговатых камня на песке, разожгли во мне огонь, когда мы шептались. Мы поклялись друг другу, что, какая бы судьба ни выпала на нашу долю, мы всегда будем вместе. Больше я с этой маленькой индианкой не встречалась. Ее вернули домой, а меня отослали прочь. Я всегда молилась, чтобы снова с ней встретиться, когда мы вырастем, превратимся в леди, оторвемся от покинувших нас родителей, чтобы искупить все свои грехи. А если выйдет так, что она не вернется ко мне, тогда я стану тем, кем была она, заживу ее жизнью в Лондоне, городе поэтов, парков и тайн. Мы заживем с ней одной семьей, она и я».

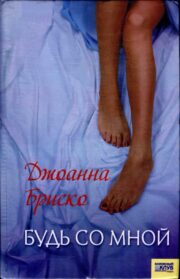
"Будь со мной" отзывы
Отзывы читателей о книге "Будь со мной". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Будь со мной" друзьям в соцсетях.