В августе 1654 года его четвертовали на городской площади…
— О, мадам Ортанс, вы — прекрасная рассказчица! — похвалил ее Шар ль Перро, когда умолкли аплодисменты.
— Вы льстите мне, мсье Перро.
— Я никогда бы не оскорбил вас лестью, мадам.
— Благодарю за искренность, мсье Перро. Мне бы не хотелось быть объектом лести, тем более памятуя слова Ларошфуко о том, что лесть — это не более чем фальшивая монета, которая имеет хождение только благодаря нашему тщеславию.
— Истинно так, — проговорил Лафонтен. — Всерьез воспринимают лесть только уж очень тщеславные люди.
— Подобные Вороне из вашей басни, — заметила Луиза.
— Да, — кивнул писатель, — когда она выронила драгоценный сыр, очарованная грубой лестью Лисицы.
— А нам предстоит очарование следующим рассказом, — сказала Анжелика.
3
Сидящий справа от Ортанс Пегилен де Лозен поудобнее уселся в своем кресле:
— То, что я хотел бы предложить вашему благосклонному вниманию, не является цельным повествованием, а всего лишь набором коротких историй, нанизанных…
— Отлично! — отозвался де Грие. — Порой дюжина куропаток на вертеле предпочтительнее бараньей туши.
— Что ж, тогда я начинаю… В окрестностях Беарна, где я провел если не самые благополучные, то, по крайней мере, самые веселые годы своей жизни перед тем как превратиться в придворного шаркуна, жил когда-то один отшельник.
Как и подобает людям его звания, он очень редко покидал свою хижину на опушке дремучего леса, да и то лишь затем, чтобы собрать немного целебных трав и кореньев.
Был он еще достаточно молод и пригож, что не могло не послужить основанием для самых разнообразных предположений относительно причин, побудивших его ограничить свой мир стенами ветхой лесной хижины.
Сначала, как водится, все видели в отшельнике беглого преступника, затем молва наделила его даром исцеления страждущих, хотя ни одно из этих утверждений ничем не подтвердилось на протяжении достаточно долгого времени.
Пересуды стихли только тогда, когда хижину отшельника начали посещать женщины, множество женщин, и простолюдинок, и аристократок, приезжавших на заветную опушку в раззолоченных каретах. Поведение отшельника уже не вызывало отчаянных споров, так как теперь оно стало именно таким, каким, по общему мнению, и должно было быть с самого начала.
Ввиду того, что посетительницами отшельника были по большей части замужние дамы, следовало ожидать решительных действий со стороны обманутых мужей, и местные кумушки уже предвкушали кровавую развязку этого лесного действа, однако первым, кто выразил свое отношение к забавам отшельника, был не какой-нибудь озверевший рогоносец, а аббат местного прихода.
Впрочем, здесь нет ничего удивительного: мужьям от этих забав не могло быть, в принципе, никакого урона, а только лишь прибыль в случае успешного зачина, а вот духовный пастырь нес вполне осязаемые убытки, потому что прихожанки перестали приходить на исповедь и оплачивать свои грехи звонким золотом и холеными телами, которые они теперь несли в хижину отшельника.
Аббат, не желая быть замеченным в общении со столь темной личностью, как он не раз называл отшельника с амвона, послал к нему своего клирика с заданием передать приказ о немедленном освобождении благословенной лесной чащи от своего тлетворного присутствия.
Клирик пришел к отшельнику и имел с ним достаточно продолжительную беседу, которая закончилась тем, что хозяин хижины пообещал серьезно подумать над предложением аббата, а пока что передал ему в подарок сосуд с густой жидкостью темно-зеленого цвета, способной, как он заверил, «напоить чресла такой мощью, какой не обладал и Геракл, лишая невинности сорок дев в одночасье».
Аббат остался доволен результатом переговоров, а сосуд с зельем привел его в неописуемый восторг, так как тем же вечером ему предстояло посещение одной красавицы, которая после долгих колебаний наконец-то согласилась уступить его притязаниям, воспользовавшись поездкой супруга в соседний город к умирающему богатому дяде.
Согласие красавицы означало не только возможность наслаждаться ее роскошным телом, но и немалые блага сугубо практического свойства, так как дама была весьма богата и при этом не страдала утонченностью ума.
Готовясь к вечерней баталии, аббат отхлебнул прямо из горлышка сосуда столько целебного зелья, что его с лихвой хватило бы нескольким дюжинам пожилых султанов перед посещением многосотенных гаремов, если бы…
Пегилен умолк, явно с целью заинтриговать своих слушателей, по лицам которых можно было безошибочно определить, что он достиг поставленной цели, а затем продолжил:
— Если бы это действительно было средство поддержания мужской силы, но…
Он снова сделал паузу, на этот раз понимая, что если не все, то большая часть слушателей уже догадалась, в чем дело, и проговорил:
— Это было сильнейшее слабительное! Сильнейшее!
Направляясь к дому красавицы, аббат ощущал какое-то неясное бурление в нижней части туловища, но приписал его действию снадобья, заставившего горячую кровь насытить небывалой мощью его притомившиеся на пастырской службе гениталии.
Нужно к тому же заметить, что, идя на столь верное дело, наш герои не надел подштанников, дабы ничто не препятствовало ему как можно скорее овладеть дамой, которая, теперь уже наверняка, будет рыдать от восторга и орать, как кошка по весне…
Дверь отворила доверенная горничная, затем провела наверх, где в супружеской спальне ждала его, сгорая от нетерпения, хозяйка дома, одетая по такому торжественному случаю в роскошный пеньюар, под которым, как нетрудно было догадаться, было одно лишь вожделенное тело, но когда аббат сделал навстречу ей несколько шагов по толстому светло-голубому ковру, произошло то, что неизменно должно было произойти, тем более при такой дозе слабительного.
Мощный фонтан нечистот в мгновение ока превратил супружескую спальню в отхожее место, а виновник этого превращения в тот же вечер покинул наши благословенные края…
— А отшельник? — спросила Катрин.
— Что ему станется? — пожал плечами Пегилен. — Отшельник — он и есть отшельник…
— А дальше? Дальше — что? — нетерпеливо спросила Луиза.
— Все, это все, — ответил Пегилен.
— Но вы же обещали куропаток на вертеле, — проговорила Мадлен.
— Я не хотел отнимать излишне много времени, — немного рисуясь, сказал Пегилен. — Ну, разве что еще одну…
— Две! — поправила Луиза.
Пегилен кивнул и начал излагать следующую «куропатку»:
— Как-то одна монахиня пришла на исповедь к аббату.
«Ну, — лениво проговорил он, — в чем же ты грешна, дочь моя?»
«Недавно случилось так, что мне пришлось накрыться чужой сутаной, святой отец».
«Думаю, что в этом нет особого греха, дочь моя. А в ту сутану ничего не было, часом, завернуто?»
«Было, святой отец».
«Что же?»
«Монах, святой отец».
«Вот как… Что ж, дочь моя, да простится тебе этот грех, но впредь остерегайся накрываться таким одеянием, ибо оно может содержать в себе грязь многих иных прегрешений».
«Уголь сажу не замарает, святой отец».
«Но… монах… фи, дурной тон, дочь моя».
«Какой есть, святой отец».
«А ты дерзка, дочь моя. Придется наложить на тебя эпитимью».
«А вы уверены, святой отец, что она намного лучше той, что наложил на меня монах?»
«Я — аббат».
«Разве от этого ваши каплуны жирнее, святой отец?»
«Да ты, я вижу, распутница, дочь моя!»
«А в кого мне было еще пойти, папенька?»
Увы, продолжал Пегилен, когда стихли смех и аплодисменты, зачастую аббаты являются в самом прямом смысле отцами своих мирян.
Один из таких вот пастырей как-то совратил свою служанку, а когда девушка забеременела, выгнал ее из дома на позор перед всем городом. Девушка хотела утопиться в пруду, но ее спасли люди из герцогской охраны.
Герцог, расспросив девушку, сильно разгневался, будучи человеком справедливым и прямым, а затем послал к аббату своего секретаря, которому было поручено убедить святого отца в необходимости дать соблазненной девушке на жизнь хотя бы тридцать ливров. Аббат разговаривал с посланцем достаточно вежливо, но деньги дать отказался, сославшись на устав ордена.
Герцог, разгневавшись еще более, сам поехал к аббату и потребовал на содержание девушки уже не тридцать, а пятьдесят ливров. Аббат, заглянув в свой устав, сказал, что там не предусмотрено давать девице за бесчестье больше двадцати ливров.
— Что, так и написано? — недоверчиво спросил герцог.
— Да, монсиньор, вот, убедитесь сами.
— Вот оно что! — воскликнул герцог. — Религия запрещает вашей братии даже смотреть на женщин, а устав, видите ли, предусматривает даже выплату двадцати ливров за причинение бесчестья! Выходит, что ваш устав покрывает причинение вреда моим людям!
— Это делается с согласия и одобрения папы, — заметил аббат. — Так что я не советовал бы…
— Что?! — вскричал окончательно выведенный из себя герцог. — Ты, червь монастырский, еще смеешь мне угрожать! Вот что: если через два часа ты не передашь в мою канцелярию сто ливров в качестве приданого этой девушки, тебя не защитят ни твой гнусный устав, ни твой развратный папа! Ты знаешь, мое слово надежно…
Уже через час аббат прислал в канцелярию герцога сто пятьдесят звонких золотых пистолей!
Некоторые люди, к сожалению, не способны расслышать доброе слово, если им при этом не щекотать живот острием шпаги, увы…
— Не все, — заметила Катрин, которая сидела справа от Пегилена де Лозена, — иногда доброе слово само по себе может обладать огромной силой, как вода, которая весной сносит самые прочные плотины…
Рассказ, который я хотела бы предложить вашему вниманию, высокочтимые дамы и кавалеры, не нов по своему сюжету, так как еще во времена Петрония случались подобные ситуации, да, наверное, и в более поздние времена, но от этого они не становились менее странными… правда, лишь на первый взгляд…
4
Исходная, классическая коллизия такова.
Очаровательная молодая вдова, обезумев от горя после утраты любимого мужа, закрывается в фамильном склепе, где лежит покойник, чтобы, уморив себя голодом и отчаянием, последовать за ним в царство мертвых.
Верная служанка неотлучно находится при своей госпоже, поддерживая огонь в светильнике.
В городе только и разговоров, что о героической преданности красавицы вдовы, и все его жители готовятся воздать ей высшие почести после скорой смерти у тела супруга…
Неподалеку от склепа, где готовилась принять смерть безутешная вдова, стояли три креста с распятыми на них разбойниками. Останки казненных охранял молодой легионер. Глубокой ночью, увидев свет, пробивающийся из-под двери склепа, он, оставив свой пост, направился туда и, увидев изможденную красавицу, предложил разделить с ним его скромный ужин. Услышав это святотатственное предложение, вдова еще яростнее начала бить себя в грудь и рвать свои роскошные волосы.
Тогда легионер обратился к служанке с предложением поесть и подкрепиться добрым вином. Голодная служанка не заставила себя долго упрашивать. Во время трапезы они не раз обращались к вдове, взывая к ее благоразумию и умоляя съесть хоть кусочек дичи, но она была непоколебима в своей решимости уморить себя голодом и скорбью.
Однако через некоторое время, поддавшись на уговоры захмелевшей служанки, вдова скрепя сердце соглашается выпить глоток вина, только один глоток, не более… потом еще глоток… еще один… потом — закусить вино кусочком мяса… Ну а затем — жизнь берет свое, и вдова остаток ночи проводит в азартных любовных играх с молодым легионером.
В это время родственники одного из распятых преступников, воспользовавшись отсутствием легионера, снимают тело с креста и уносят, чтобы похоронить.
Обнаружив пропажу, легионер приходит в отчаяние: за самовольный уход с поста его ожидает смертная казнь. Желая избежать позора, он решает заколоться собственным мечом и просит возлюбленную предать его тело земле.
Но женщина принимает иное решение.
Не желая оплакивать сразу двух любимых мужчин, она предлагает распять на кресте своего мужа вместо исчезнувшего тела разбойника.
Они так и сделали, после чего продолжили до утра любовные игры в пустом теперь уже склепе…
Разумеется, не все вдовы таковы, продолжила Катрин, украдкой взглянув на Анжелику, но исключения, как известно, лишь подтверждают правила.

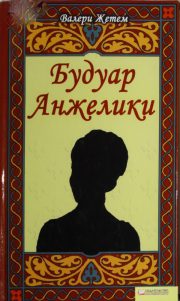
"Будуар Анжелики" отзывы
Отзывы читателей о книге "Будуар Анжелики". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Будуар Анжелики" друзьям в соцсетях.