Родившись импровизатором, Раннальдини требовал от своих музыкантов роста совершенства с первой же репетиции. Природа наделила его и феноменальной памятью. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы запомнить содержание всей страницы. И потому он всегда мог дирижировать, не глядя в партитуру, а значит, никогда не терял жизненно важный визуальный контакт с оркестром, да и, теша тщеславие, мог не ходить в очках на людях.
Раннальдини был щеголем. Его фрак доводился до совершенства неоднократным примериванием. И женщины умерли бы от восторга, узнав, что его спина с широкими прямыми плечами покрыта буровато-серой шерстью. Спереди вид был еще лучше: скульптурно вылепленное, обычно загорелое лицо с тонкими нежными губами прекрасной формы и темными глазами, не только гипнотизирующими оркестр, но и покоряющими женские сердца.
Кроме кошмарного детства Раннальдини печалился еще о двух вещах. Во-первых, он понимал, что в большей степени интерпретатор, чем композитор, хоть и величайший дирижер мира. В юности сочинял, но имеющий способность эффектно играть чужое, в своем оставался вторичным и банальным, доводя его до абсурда и обрекая на стопроцентный провал. А во-вторых, ему очень хотелось стать шести футов роста вместо отпущенных пяти футов и шести дюймов.
И вот теперь он вернулся днем раньше и украдкой пробирался в новый «Моцарт-холл». Оркестр уже играл «Четвертую» Малера под впечатлением от успеха в Вене прошлым вечером. Большинство музыкантов остались на вечеринке в честь дня рождения Освальдо, планируя вернуться домой на предстоящую вечером репетицию утренним самолетом.
Восторг избалованной венской публики все еще не шел из их гудящих голов, и не хотелось ничего репетировать сверх нескольких трудных пассажей и совместного с Гермионои исполнения четвертой части, которое должно было состояться в воскресенье. Поскольку Ран-нальдини ожидали назавтра, в воздухе еще витало элегическое настроение последнего дня каникул, усиленное находящимися в зале личными вещами артистов, упакованными в футляры для инструментов (пиджаки для ужина, вечерние платья в пакетах и портпледах, размещенных на передних сидениях и в проходах).
Освальдо, высокий и нескладный, раскачивался на роструме, руки его летали чайкой, волосы растрепались, а желтая рубашка периодически обнажала пару дюймов худой бледной спины.
– Это танцевальная музыка, – пояснил он, на секунду призывая остановиться. – Играть нужно немножко живо.
Плохо владея английским, он продемонстрировал требуемый ритм дерганьем локтей и раскачиванием узких бедер.
– Господи, ну и похмелье, – сказала первая скрипка, подзывая проходящего Боба Гарфилда. – Принеси нам, если не трудно, «Алка-Зельцер», и давай, Осей, после этого фрагмента прервем и попьем кофе.
Вдруг сидящие за передними пультами музыканты почему-то затряслись. А когда вскоре все почувствовали удушающе-сладкий мускусный запах, стало понятно, что это индивидуальный крем после бритья «Маэстро», созданный Дживенчи специально для Раннальдини, следующего сейчас к дирижерскому пульту.
– Немножко живо, – мягко прошелестел он. – Какое уникальное указание. Не очень-то вы о'кей в таком случае.
Первая скрипка уронила смычок, ударник подавился ириской, арфистка прекратила красить ногти на ноге, хорошенькая скрипачка в лиловой блузке, специально занявшая ближайший к залу пульт, прекратила читать письмо от любовника. Играющая на рожке девушка, которая влюбилась в Раннальдини после того, как в турне по Японии он затащил ее в постель, юркнула за виолончелиста, спешно поправляя прическу и наводя румянец на бледные щеки. Брошенная кем-то записка, предназначенная Освальдо, упала к ногам Раннальдини. Освальдо терял стойкость и уверенность так же быстро, как таял снег под солнцем. Боб Гарфилд, вошедший было в зал со стаканом шипучей «Алка-Зельцер», поспешно повернул обратно.
Обычно во время пауз слышалось щебетанье, но теперь во всем зале стояла мертвая тишина. Музыканты, халтурящие в отсутствие Раннальдини, готовили отговорки, которые обычно разбивались о жесткие фразы.
– Очередная пробка на дороге? Ужасный поток из аэропорта? – заорал Раннальдини на маленького флейтиста, окруженного дорожными сумками «Сенсбери». – Я десять минут назад там совершенно свободно ехал. Поезд опоздал? Вздор! – его голос сорвался на визг. – Вы опоздали! Еще раз – и вы уволены.
– Извините, Раннальдини, но на Слоан-сквер ожидался взрыв бомбы, – юркнув за передний пульт, оправдывался скрипач.
– Взрыв бомбы? – промурлыкал Раннальдини, когда опоздавший торопливо настраивал скрипку, подкручивая колки трясущимися руками. А затем зарычал: – Я под вас бомбу подложу, под всех! Не забудьте заглянуть под машины, когда начнете разъезжаться.
Он медленно поднялся за дирижерский пульт. Ставший от лос-анджелесского соднца темным, как скрипки оркестра, Раннальдини остался в черном пальто с каракулевым воротником, еще не привыкнув к зябкой мартовской погоде. Презрительно сбросив на пол партитуру, он снял «ролекс», положил их на пюпитр и принял позу одной из статуй в «Валгалле», выражающую властность.
Оркестранты припали к нотам, мечтая о привязных ремнях, удерживающих от непокорности. Внезапно музыка, известная еще пять минут назад, показалась совершенно незнакомой.
Постучав дирижерской палочкой, подаренной Тосканини, Раннальдини развел руками. Первая скрипка прижала подбородком инструмент, и смычок затрепетал в руке, как только Раннальдини слегка поднял руку вверх, давая сигнал к началу мрачно-неторопливого третьего акта.
Со взглядом, ничего не упускающим, с изысканной жестикуляцией, он правой рукой отсчитывал такты, а левой делал знаки музыкантам, полностью овладев оркестром. Сдержанный в движениях, он даже своей палочке позволял не больше, чем наблюдающий через окно за птичкой кот своему хвосту, убаюкивая внимание исполнителей ложным ощущением полного порядка. А может, действительно зрители в Вене были правы?
И тут он сорвался с цепи, словно отряд фашистской полиции с дубинками на беззащитную толпу, отыскивая в игре ошибку за ошибкой, пока не разрыдались женщины и не затряслись мужчины, отдирая кусочки от покрывающего пол индийского каучука, чтобы стереть в своих партитурах указания, данные Освальдо, заменить их на установки Раннальдини.
Слыша фальшь и за десять миль, он с гневом набросился на гобоиста:
– Вы делаете сотни ошибок.
– Этот отрывок очень труден, – оправдывался музыкант.
– Вздор, – загремел Раннальдини. Неторопливо сойдя с рострума, он отнял гобой и совершенно сыграл сам.
– Просто не репетируете. Уволены. И вернул гобой.
Тут он заметил обаятельную мордашку Боба Гарфилда со впавшими и усталыми глазами и заорал, что не будет дирижировать в воскресенье, если нанятые в его отсутствие Бобом двадцать четыре музыканта не будут немедленно уволены.
– Они мне не подходят, – визжал он.
– Но ведь уже раскуплены все билеты, маэстро, как же Би-би-си и «Кетчитьюн»? – чуть не плача, сказал менеджер.
– Придется отменить, – огрызнулся Раннальдини. – Я не могу играть с этим сборищем свиней.
Выпалив все, он повернулся к оркестру и стал пинать пюпитры своим неновым черным ботинком ручной работы.
– Я слышал вашу убийственную «Девятую» Бетховена. Бедный Бетховен, надеюсь, он не обрел слух на небесах. И еще я записал, как вы по программе «Радио три» провалили исполнение «Сотворения Мира».
– Но ведь и то и другое получило хорошую оценку, – возразил Боб, успокаивающе кладя руку на плечо гобоиста.
– Обозреватели – тупые свиньи, а этого тоже уволить, – Раннальдини указал на опоздавшего скрипача за передним пюпитром.
– Мы не можем, – прошептал Боб. – Его только что бросила жена.
Их грохотом отвлекла уборщица.
– Вот чувствующая женщина, которая пытается перекрыть вашу какофонию, – сказал Раннальдини.
И вновь все отвлеклись – на репетицию четвертой части явилась закутанная в норку Гермиона.
– Мне жаль оставлять меховщиков без работы, – говорила она агенту, секретарю, гримерше, швее и осветителю, окружавшим ее. – Я просто уверена, люди появились еще раньше животных.
Расцеловав ее в обе щеки, Раннальдини немного успокоился.
– Переходим к заключительной части, поскольку миссис Гарфилд оказала честь и завернула сюда и в отличие от вас знает партитуру.
Работать с Гермионой было просто кошмаром. За показной безмятежностью скрывался безжалостный эгоизм. Из-за костюмов или акустики всегда был переполох, направленный против оркестрантов или других солистов, распространявшийся везде и всегда, где бы она ни появлялась, и оставлявший всех опустошенными, так как изо всех буквально выжимались комплименты. Но стоило ей открыть рот, звучало безукоризненное пение.
Сегодня, когда она хлопотала, беспокоясь об освещении, ее муж Боб бродил среди оркестрантов и, как мог, их успокаивал. Держа партитуру и жуя яблоко для увлажнения горла, Гермиона слушала, как Раннальдини распекает очаровательную флейтистку, от страха раньше начавшую свою партию.
Ожидая приглашающего к вступлению кивка, Гермиона стояла слева от Раннальдини, как это часто бывало и раньше, когда он делал ее знаменитой во всех столицах мира. Это ко многому обязывало. Она старалась не ради ирисок и жертвовала всем, иногда чертовски раздражая Раннальдини. Но когда открывался рот и раздавался ангельский звук, он забывал все. В свою очередь Гермиона, казалось, любила его только одними огромными карими глазами, благодаря за то, что он молится на ее волшебство.
Оркестр наблюдал за ее чудесными дергающимися ягодицами со смешанным чувством желания и ненависти, но окончание партии встречал аплодисментами и даже криками «браво», потому что она этого ждала.
– Блестяще, миссис Гарфилд, – мерзкий голос Раннальдини мог отражать и глубокие чувства, когда тот был в мирном настроении.
– А что касается сброда, пусть отправляется домой и репетирует. Вот вам партитура, – и, подняв с пола бумаги, он швырнул их в оркестр, едва не задев кларнетистку. – Хоть не ешьте, но если к завтрашнему дню не выучите, в воскресенье я не приду.
И он гордо удалился, оставив оскорбленную Гермиону в пустом ожидании приглашения на обещанный обед у Сан-Лоренцо.
– Что нам делать? – в отчаянии спросил менеджер «Моцарт-холла». – Не можете же вы уволить всех музыкантов?
Боб пожал плечами.
– Раннальдини бушевал здесь только потому, что терпеть не может, когда оркестр с кем-то помимо него хорошо играет. И вот какое дело, – Боб понизил голос, – Сесилия, вторая жена, сейчас в Лондоне. Приехала спеть в «Лючии» в Ковент-гардене. Желая потушить скандал в самом начале, он хочет пригласить ее на обед в «Савое». Она живет в Нью-Йорке. Но когда приезжает, они спят только вместе, и когда сам в Нью-Йорке – тоже.
– А что она любит? – спросила первая скрипка, забыв о похмелье.
– Эта ядовитая змея останавливается в маленьких грязных номерах. Она бы ела мужчин и на завтрак, если бы не сидела постоянно на диете, – Боб затрясся от смеха.
– Вот те на, – произнес уволенный гобоист, воспрянув духом. – А Гермиона знает?
– Господи, конечно же, нет! Зачем ее огорчать? Сесилия вечером будет предположительно в «Багли-холле» на заключительном концерте. Борис Левицки – мастер развлекать, так что положение вещей можно немного улучшить. Я думаю, туда закатятся и Раннальдини, и Гермиона. Причем все прилетят на разных вертолетах.
– Этот малый просто святой, – сказала первая скрипка, когда Боб направился успокаивать Гермиону.
16
«Багли-холл» был респектабельным пансионом, расположенным среди холмов на границе Ратминстера и Глочестершира. Родители, в основном деятели искусств и представители средств массовой информации, выбирали эту школу, считая музыку прекрасным занятием, а отдаленную сельскую местность – идеальной для проживания своих чад. Первое оказалось верно только отчасти после того, как музыкальным воспитателем стал Борис Левицки. Обнаружив угрозу спокойствию жены со стороны Лизандера, встретившегося ей в аптеке, Борис быстренько покинул лондонский «Мет», где был помощником дирижера, и укрылся в сельской местности, чтобы спасти брак.
Борис ненавидел свою должность помощника дирижера, ведь она означала полное бесславие. В его обязанности входило только проведение репетиций и восстановление в памяти музыкантов партитур, а фрак хранился в глубине шкафа, напрасно дожидаясь момента, который, увы, никогда не наступал.
Это, а также безнадежные попытки услышать собственные произведения звучащими или увидеть опубликованными, привели его к роману с меццо-сопрано Хлоей.
Завидуя природному таланту композитора и дирижера Бориса и не терпя духа соперничества у себя в оркестре, Раннальдини способствовал получению им работы в «Багли-холле» еще и потому, что сознавал: его дочь Наташа и сын Вольфи, обучающийся последний год, совершенно не имеют музыкальных способностей, и он надеялся только на учителя, у которого можно что-то перенять.

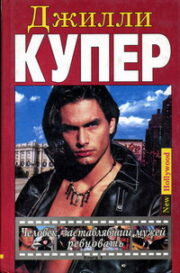
"Человек, заставлявший мужей ревновать. Книга 1" отзывы
Отзывы читателей о книге "Человек, заставлявший мужей ревновать. Книга 1". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Человек, заставлявший мужей ревновать. Книга 1" друзьям в соцсетях.