Единственное, что портило настроение Лавинии, так это хроническая нехватка денег. И не то, чтобы она знала в чем отказ от мужа — были бы ее желания в рамках разумного. Однако фантазиям ее не было предела: она могла вдруг потребовать новый кабриолет, обитый изнутри бледно-голубым бархатом — не потому, что ее старый вдруг стал непригоден или обивка в нем поистрепалась, — вовсе нет, просто ей надоели малиновые подушки. Или же вдруг она могла захотеть какую-нибудь новую и безумно дорогую вещицу, а приобретя ее, через неделю совершенно к ней остывала.
Ричард безропотно дарил ей комнатных собачек (самых породистых), пажов-негритят, драгоценности и бесчисленное множество безделушек, за что она вознаграждала его сияющими улыбками и самыми нежными ласками. Но когда она потребовала перемебелировать Уинчем-хаус во французском придворном стиле и выбросить на помойку всю нынешнюю чудесную мебель времен королевы Анны, а вместе с ней — все старинные гобелены и бесчисленные ширмы и шторы, тут он проявил твердость, удивившую даже ее. Никогда, следуя ее прихотям, не позволит он менять что-либо в доме Джона. Ни стенания, ни слезы Лавинии не тронули сердца Ричарда, а когда она надулась и замолчала, он выбранил ее столь грубо, что она испугалась и унялась, впрочем, ненадолго.
Целую неделю грезила она лишь французскими креслами, а затем вдруг, как это уже часто случалось, охладела к затее и вскоре напрочь забыла о ней.
Ее счета от портных превосходили все мыслимое и немыслимое и принесли Ричарду немало бессонных ночей, однако она всегда так очаровательно каялась, что он просто не мог долго на нее сердиться, и в конечном счете пришел к выводу, что ему доставляет куда большее удовольствие тратить деньги на бесконечные прихоти жены, нежели на ее братьев. Она была то холодна, то пылала к нему страстью, то вдруг бросалась задабривать его и была при этом так мила и обольстительна, а назавтра злобно огрызалась, когда он заговаривал с ней.
В начале сезона он послушно вывозил ее на приемы и балы-маскарады, но затем она начала выезжать то с Эндрю, то с Робертом — оба они жили в городе — чью веселую компанию предпочитала несколько угрюмой заботливости мужа. Трейси бывал в Лондоне редко и задерживался всего на несколько дней, а потому Карстерсы, к великому облегчению Ричарда, видели его редко. Карстерс терпеть не мог полковника лорда Роберта Бельмануара, а уж герцога так просто ненавидел и не только по причине вечных насмешек, которые тот отпускал в его адрес, но из-за дурного влияния, которое Трейси оказывал на Лавинию. Ричард не на шутку ревновал его к жене и с трудом сдерживался, когда его светлость навещал миледи. Справедливо или нет, но только Трейси он винил во всех безумствах Лавинии и в ее периодических припадках гнева. Его светлость был человеком проницательным, вскоре догадался об этом, и с издевательским упорством стал дразнить Ричарда, всячески поощряя экстравагантные выходки сестры и неизменно навещая ее всякий раз, когда бывал в городе.
Карстерс никогда не знал, когда ждать родственника — тот заявлялся к ним в лондонский дом без всякого предупреждения и столь же неожиданно уезжал. Никто не знал, задержится ли он на день или дольше, никто не удивлялся, видя его в городе в то время, как по всем подсчетам он должен был бы находиться в Париже. Люди лишь пожимали плечами и обменивались многозначительными взглядами, бормоча при этом: «Дьявол Бельмануар!», и гадали о том, какую новую интригу он затеял.
А потому Ричард нисколько не огорчился, когда миледи вдруг надоел Лондон и охватило желание немедленно, сейчас же отправиться в Бат. В глубине души он надеялся, что она вернется в Уинчем, однако Лавиния не выразила такого стремления, и он, подавив тоску о доме, запер свой лондонский особняк и отвез жену со всем ее багажом в Бат, где поселил на Квин-сквер, в одном из самых элегантных меблированных домов города.
Леди Лавиния сперва была совершенно очарована местом, не уставала восхищаться домом и мастерством французского портного, которого удалось обнаружить.
Но счета, поступающие от этого портного, оказались просто чудовищными, а гостиная в доме — недостаточно вместительной для приемов, которые она планировала устраивать. Морской воздух действовал на нее как-то слишком расслабляюще и она была подвержена постоянному «воздействию испарений», которые производили отрицательный эффект как на нее самое, так и на всех домашних. К вечеру у нее начинала страшно болеть голова — как никогда не болела в Лондоне, а от сырости развилась простуда. Мало того, прибытие в город некой весьма привлекательной и чрезвычайно богатой вдовы доставило ей немало горьких минут, что еще больше способствовало скверному настроению.
Однажды днем она лежала на кушетке в своем белом с позолотой будуаре — увы! страсть к французской мебели улетучилась навеки — с флаконом нюхательных солей в руке и bona fide[8] головной болью, как вдруг дверь отворилась и в комнату вошел Трейси.
— Боже мой! — слабым голосом произнесла она и откупорила флакончик.
Это был первый визит его светлости со времени прибытия Лавинии в Бат, и она еще не забыла, как вежливо, но твердо отверг он посланное сестрой приглашение. Склонившись над вялой ручкой, которую протянула ему Лавиния, он оглядел ее с головы до ног.
— Сожалею, что застал тебя не в самом блестящем расположении духа и тела, дорогая сестра, — вкрадчиво протянул он.
— Ничего страшного, один из этих дурацких приступов мигрени… Мне все время здесь плохо, к тому же в этом доме так душно, — капризно пожаловалась она.
— Тебе следовало бы попринимать ванны, — заметил он, разглядывая через лорнет кресло, на которое она ему указала. — Слишком неустойчивое на вид, дорогая, я предпочел бы кушетку, — он подошел к маленькой софе и уселся.
— Однако скажи, как долго ты собираешься пробыть в Бате? — спросила Лавиния.
— Я прибыл во вторник, на той неделе.
Леди Лавиния возмутилась.
— В прошлый вторник?! Так ты здесь уже десять дней и до сих пор не нашел времени навестить меня?
Его светлость был, казалось, целиком поглощен рассматриванием своих рук — таких белых на фоне ниспадающих кружевных манжет.
— Мне было чем заняться, — холодно ответил он.
Лавиния поправила подушки, и книга проповедей, которую она пыталась читать, соскользнула на пол.
— Выходит, ты навещаешь меня только когда тебе удобно? Почему ты отказался от моего приглашения? — в голосе ее звучали визгливые истерические нотки, верный признак закипающего гнева.
— Лавиния, дорогая, если ты начнешь демонстрировать свой вздорный характер, я тотчас уйду, так что будь осторожней. Надеюсь, ты понимаешь, что общество твоего образцового мужа, сколь бы благотворным оно ни являлось, действует на меня удручающе. Честно говоря, меня удивило твое письмо.
— Должно быть, ты поспешил сестре на помощь, — раздраженно заметила она, откидываясь на подушки. — Полагаю, все это время ты посещал танцульки этой женщины, Молести? Господи! Нет, ей-Богу, все вы, мужчины, просто посходили с ума!
Лицо его светлости озарила хитрая понимающая улыбка.
— Так вот что тебя удручает! Понимаю…
— Ах, нет, совсем не то! — она покраснела. — С чего ты взял, понять не могу? Лично я не нахожу в ней ничего такого особенного, а то, что мужчины так и вьются вокруг нее, нахожу просто глупым и отвратительным! Так, хорошо, прекрасно! Что же ты молчишь? Ты тоже находишь ее очаровательной?
— По правде сказать, дорогая, я видел эту даму лишь мельком. Был слишком занят и вовсе не интересовался женщинами, за исключением одной…
— Ты и прежде так говорил… Так ты что же, никак надумал жениться? Боже, мне жаль эту девушку! — Лавиния насмешливо улыбнулась, но было ясно, что она заинтригована.
Его светлость ничуть не смутился.
— Я не планирую брака, Лавиния, так что все твои тревоги напрасны. Просто я встретил девушку… нет, скорее, даже ребенка… И не успокоюсь, пока не заполучу ее.
— Боже! Очередная фермерская дочка?
— Нет, дорогая сестрица, не очередная фермерская девочка. Леди.
— Господь, спаси ее! А кто такая? Где живет?
— В Сассексе. А вот имени ее я тебе не скажу.
Ее светлость злобно лягнула подушку, отчего та свалилась на пол, и огрызнулась:
— Ах, да как тебе будет угодно! Я от любопытства вовсе не умираю!
— Вон оно как… — тонкие губы Трейси иронически скривились, и леди Лавиния почувствовала неукротимое желание запустить ему в голову флакончиком с нюхательными солями. Но она знала, что злиться на Трейси более чем бесполезно, а потому демонстративно зевнула в надежде, что это раздражит его. Если даже это и произошло, никакого удовлетворения она не получила, поскольку брат продолжал совершенно невозмутимым тоном:
— Она самый лакомый кусочек из всех, что доводилось видеть мужчине, и клянусь, под этим льдом самая что ни на есть пылкая кровь!
— А что, если девушка откажет во взаимности вашей светлости? — насмешливо спросила Лавиния и с удовлетворением отметила, что брат нахмурился.
Тонкие брови сошлись над изящно вогнутой переносицей, глаза сверкнули, а над чувственной нижней губой хищно блеснула полоска белых зубов. Пальцы впились в табакерку и она физически ощутила, как он весь возбудился. Впрочем, длилось это не более секунды — брови разгладились, пальцы разжались, и он снова улыбнулся, глядя на сестру.
— Пока она холодна, — сознался он, — однако, надеюсь, что со временем станет податливей. Даже не надеюсь, а просто уверен, Лавиния, потому как у меня имеется кое-какой опыт в обращении с вашим столь пленительным, но капризным полом.
— Не сомневаюсь. И где ты повстречал эту несговорчивую красавицу?
— В Памп-Рум.
— Боже! Ну, так опиши ее!
— С восторгом. Она выше тебя ростом и темненькая. Волосы словно сумрачное черное облако и вьются надо лбом и маленькими ушками чертовски соблазнительным образом. Глаза карие, но в них сверкают искорки чистого янтаря, и в то же время они такие темные, бархатные…
Миледи поднесла к носику флакон с солями.
— Однако, мне кажется, я тебя утомляю. Влюбленный мужчина, дорогая моя Лавиния…
Тут она снова вскинулась.
— Влюбленный? Ты? Но это же полный нонсенс! Чепуха! Тебе неведомо, что означает это слово. Ты… ты словно рыба, страсти в тебе не больше, чем в рыбе, и сердца тоже, и…
— Ах, оставим эти перечисления, прошу тебя! Да, я влип, это несомненно, но смею надеяться, что уж мозгов-то у меня побольше, чем в рыбе!..
— О, да! — взвизгнула она. — Только это ум, нацеленный на зло, можешь мне поверить!
— Очень мило с твоей стороны…
— И страсть, которую ты теперь испытываешь, не имеет ничего общего с любовью. Это… это…
— Прости, дорогая, но в данный момент я напрочь лишен каких-либо сильных эмоций, так что твое замечание…
— О, Трейси, Трейси, вот видишь, мы уже с тобой ссоримся! — в отчаянии воскликнула она. — Ах, ну почему, почему?..
— Ты заблуждаешься, дорогая. Это не что иное, как обмен комплиментами. Я вовсе не желаю мешать тебе упиваться своим несчастным состоянием.
Губы ее дрожали.
— Хорошо. Продолжай, Трейси, продолжай!
— Прекрасно. Итак, глаза я вроде бы описал?
— Весьма многословно и скучно.
— Тогда попробую быть кратким. Губки у нее так и просят поцелуя, более соблазнительных губок я в жизни не видел…
— Несмотря на свой столь обширный опыт, — не удержалась и съязвила она.
Он иронически кивнул.
— Вообще она очень живая и веселая, словно молодой жеребенок. Всего-то и надо, что подстегнуть…
— Есть ли нужда подстегивать? Мне всегда казалось, что…
— Ты, как всегда, права, моя дорогая Лавиния, нужды подстегивать нет. Девушек укрощают. Позволь поблагодарить за то, что ты поправила мою столь неловкую метафору.
— Ах, оставь!
— Буду краток. Лед нужно сломать. Процесс укрощения может оказаться весьма занятным.
— Вот как? — она взглянула на него с любопытством.
— Разумеется. Убежден, что это вполне возможно. Я своего добьюсь.
— А что, если она тебя отвергнет?
Тяжелые веки поднялись над зелеными глазами.
— У нее не будет выбора.
Леди Лавиния вздрогнула и села на кушетке.
— Ах, Трейси! И не стыдно тебе, а?.. Надеюсь, — усмехнувшись, продолжила она, — ты не собираешься похищать эту девушку?
— Именно это и собираюсь, — кивнул он.
Услышав подобное откровение, она так и ахнула.
— Господи, да ты с ума сошел! Похитить леди? Это же не простая крестьянская девка, Трейси! Умоляю тебя, не делай глупостей! И потом, как именно ты собираешься ее похитить?

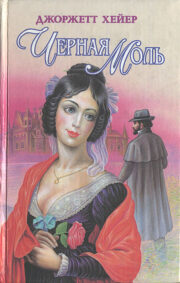
"Черная моль" отзывы
Отзывы читателей о книге "Черная моль". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Черная моль" друзьям в соцсетях.