Пимби безучастно смотрела на мирно посапывающих юнцов, на туманную муть за окном. Ею владела апатия, полнейшая апатия, которой она не ощущала никогда прежде. Прошел час. Может, больше. Пимби не представляла, сколько сейчас времени. Небо на горизонте немного посветлело. Потом на нем зажглись алые проблески. Над Лондоном вставал рассвет. Пимби с трудом сглотнула ком, подступивший к горлу. Скоро все встанут. Начнут болтать, смеяться, есть, курить. Надо отдать должное обитателям дома, они не только приютили ее, но и старались лишний раз не беспокоить. Но любопытство, которое возбуждала у них эта странная женщина, заставляло их задавать ей вопросы. Они не могли понять, что с ней происходит. Она и сама этого не знала.
В большинстве своем молодые неформалы предпочитали спать допоздна. Но теперь, опасаясь атаки властей, они проявляли бдительность. Безмятежные денечки, когда можно было дрыхнуть хоть до вечера, остались в прошлом. Около восьми утра все были уже на ногах. Кто-то одевался, кто-то курил первую за этот день сигарету, кто-то толкался около единственной треснутой раковины. Даже Игги Поп, на ночь вставлявший в уши беруши, проснулся, разбуженный шумом.
В кухне Тобико наблюдала, как Пимби жарит оладьи, которых хватило бы на полк солдат. Девушке хотелось что-нибудь сказать, но ничего не приходило на ум, и она ограничилась восклицанием:
– Вау, как вкусно пахнут!
Пимби едва заметно улыбнулась. Руки ее ловко выполняли привычную работу, мысли блуждали где-то далеко. Через несколько минут она вручила Тобико тарелку с горой оладий.
– Вот… ешьте…
– А вы?
– Потом.
– Вы знаете, мы очень любим вашего сына, – неожиданно выпалила Тобико. – Он для нас что-то вроде талисмана. И вот еще… Я не знаю, что там у вас случилось… Юнус сказал, это тайна. Сказал, вам надо на какое-то время спрятаться. Так вот, вы можете оставаться здесь, сколько хотите.
Пимби ощутила столь жгучий приступ благодарности, что глаза ее увлажнились. Она обняла Тобико, которая этого не ожидала, но не стала отстраняться и тоже обняла Пимби. Прервать объятие их заставил Игги Поп, ворвавшийся в кухню с оглушительным воплем:
– Народ требует жратвы!
Тобико схватила тарелку с оладьями и выскочила из кухни.
Оставшись одна, Пимби отыскала потрепанный веник и принялась подметать пол. Она чувствовала, что домашние дела, которыми она занималась всю жизнь, помогут ей сохранить рассудок. Поэтому весь день, не замечая недоуменных взглядов, которые бросали на нее обитатели особняка, она без устали чистила, мыла, скребла и вытирала пыль. Делала она это с таким неистовством, что никто не решился отпустить шутку в ее адрес или предложить ей отдохнуть. Как ни странно, ее одержимость чистотой оказалась заразной: кое-кто из панков, раздобыв швабру или смастерив веник, присоединился к ней. Впрочем, это занятие вскоре им наскучило.
А Пимби трудилась до самого вечера. Молодежь ходила вокруг нее на цыпочках, удивляясь про себя, как этой удивительной женщине не надоест постоянно плакать и наводить чистоту.
За три месяца до моего освобождения в отделении интенсивной терапии местной клиники пришла в себя некая пожилая леди. Она жаловалась на жажду и боль в спине, а в остальном чувствовала себя неплохо. Она смогла ответить на вопросы полицейских и описать человека, который в один скверный день вырвал у нее сумку и ударил по голове бутылкой. Несмотря на длительное пребывание в коме, память не подвела ее. Она описала преступника самым подробным образом. И это описание не имело ничего общего с Зизханом. Полицейские не желали верить, что совершили ошибку. Они показывали ей фотографию моего сокамерника. Она заявила, что это не он. Зизхана отвезли в участок и показали ей через зеркальную стену. Ответ был прежним: это не он. Суд вынес решение отправить дело на пересмотр.
– Скоро выйдешь на свободу, везунчик, – говорю я. – Ты должен прыгать выше головы от радости.
– Зизхан всегда на свобода, – отвечает он. – Зачем прыгать.
– Я буду по тебе скучать, приятель.
Он смотрит на меня с грустью.
– Когда выходить, буду о тебе помнить, – говорит он. – Ты мой лучший ученик.
– Врешь, старина. По части вранья ты мастак.
Он смеется, плечи его дрожат.
– Будет делать домашняя работа, – заявляет он.
– Что еще за домашняя работа на мою голову?
И он мне рассказывает.
В день, когда Зизхан должен освободиться, мы в последний раз садимся медитировать вместе. Сегодня я не поддразниваю Зизхана. Не говорю, что вся эта муть надоела мне до чертиков. Послушно сижу на полу, скрестив ноги, и смотрю на него. И удивительно, в первый раз мне действительно удается отключить поток сознания. Хотя бы на короткое время.
Вечером Зизхана уже нет. В полном одиночестве я лежу на своей койке. Его отсутствие действует на меня угнетающе. В последний раз мне было так хреново, когда умер Триппи. Но я постараюсь выполнить его просьбу. Сделать домашнюю работу, которую он мне задал. Более трудного задания я не выполнял за всю свою жизнь. Я должен написать матери письмо и вручить его ей, когда выйду отсюда.
Я пробую писать каждый день. Каждый день у меня получаются разные письма. Некоторые совершенно идиотские, другие довольно-таки складные. Но в них все равно не хватает самого главного. Я рву их в клочья и вновь берусь за ручку. Каждый день я корябаю несколько строк, как обещал Зизхану. Каждый день я медитирую хотя бы несколько минут. Офицер Маклаглин мне не мешает. Конечно, мы с ним не стали закадычными друзьями, но желание вцепиться ему в глотку у меня пропало. И у него, судя по всему, тоже.
Наконец мне удается сочинить письмо, которое кажется не таким глупым, как предыдущие. Я не стану его рвать. Зизхан велел мне каждый день переписывать письмо набело, до тех пор пока я не выучу его наизусть. Этим я и собираюсь заняться.
«Дорогая мама!
Я не буду отправлять это письмо по почте. Я принесу его сам, клянусь Аллахом, и передам тебе в руки. Я пишу потому, что писать легче, чем говорить. В этом году у меня открылись глаза. В камеру ко мне поселили одного чокнутого. Чокнутого в хорошем смысле. Тебе бы он понравился. Его зовут Зизхан. Отличный парень, здорово мне помог. Я понял это только после того, как он вышел на свободу. Очень грустно, но в жизни мы часто ценим только то, что потеряли.
Если бы я мог вернуться в прошлое, я ни за что не сделал бы того, что сделал. Того, что причинило всем столько боли. Тебе, сестре, брату, бедной тете. Но я не могу вернуться в прошлое. Даже на мгновение. Там уже ничего не исправишь. Зизхан говорит, что я зато могу исправить себя. Честно скажу, я в этом не уверен. Но если ты меня примешь, если ты найдешь в себе силы меня простить, я буду счастлив вновь стать твоим сыном.
Эсма
Лондон, 12 сентября 1992 года
Воскресное утро. Я готовлю завтрак на заново обставленной кухне, которая обошлась нам в целое состояние. Вообще-то, мы не можем позволить себе такие расходы, но мой муж захотел сделать все по высшему разряду. Это его подарок на восьмую годовщину нашей свадьбы. Теперь у нас не кухня, а загляденье: мебель кофейного цвета, мраморный пол, огромный американский холодильник, сверкающая плита. Не говоря уже о всяких там соковыжималках и комбайнах. Все красиво, комфортно, практично. Как в рекламном буклете.
Чтобы яичница не подгорела, я переворачиваю ее деревянной лопаточкой. Поджаристая нижняя часть теперь оказывается наверху. В жизни тоже так: до времени скрытые эпизоды прошлого всплывают в настоящем, думаю я. Трудно готовить яичницу-болтунью, когда тебя одолевают посторонние мысли. Самое главное здесь – вовремя снять сковороду с огня, а мне это никогда не удается. Яичница у меня подгорает. Или недожаривается. Наверное, у меня вообще проблемы с ощущением времени. Я не умею жить сегодняшним днем, забыв о дне вчерашнем. Снова и снова вспоминаю о девочке, одержимой великими идеями, которой была когда-то. От этой девочки, так любившей играть словами, сегодня мало что осталось. Думая о ней, я чувствую, что меня предали. Хотя предатель не кто иной, как я сама.
Обе мои дочери сидят за столом, смотрят по телевизору свою любимую программу «Blue Peter» и что-то возбужденно чирикают. Как всегда, они спорят. Им нравятся разные ведущие. Я слушаю их вполуха. Мысли мои блуждают далеко. Мое сознание, как воздушный змей, подхваченный ветром, уносится неведомо куда.
– Мама, скажи ей, что она говорит глупости! – требует Лейла.
– Ммм, да, – роняю я и снимаю сковородку с огня.
Лучше слегка недожарить яичницу, чем сжечь. Как это было вчера.
– Почему это я говорю глупости, мама?! – обижается Джамиля.
– Прости, дорогая, я не поняла, в чем дело, – вздыхаю я.
Обе девочки, задетые моим невниманием, обиженно надувают губы.
К счастью, на выручку мне приходит муж:
– Девочки, не дергайте маму. Сегодня у нее и без вас много забот.
– Каких? – спрашивает Лейла.
– Я же говорил тебе, котенок, – ласково напоминает Надир. – Сегодня к нам в гости приедет твой дядя. Мамин брат, с которым она давно-давно не виделась.
– Понятно, – без особого воодушевления говорит Лейла.
Я замечаю, что Джамиля пристально смотрит на отца. В ее темных миндалевидных глазах, так не похожих на глаза женщины, в честь которой ее назвали, вспыхивают дерзкие искорки.
– А почему вы оба нам врете? – неожиданно спрашивает она.
Моя рука, раскладывающая яичницу по тарелкам, замирает в воздухе. Я молчу, не зная, что ответить.
Надир, как всегда, невозмутим и находчив:
– Котенок, по-моему, говорить маме и папе, что они врут, не слишком вежливо. Да и другим людям тоже.
– Извини-и-ите, – тянет Джамиля, явно ничуть не раскаиваясь.
– Может, ты объяснишь нам, что имела в виду?
Наслаждаясь всеобщим вниманием, Джамиля шаловливо улыбается:
– Ну, я думаю, дядя Искендер вовсе не работал на Аляске. Я думаю… – Она смотрит на стол, словно рассчитывая увидеть там подсказку, и выпаливает: – Он русский шпион!
– Ну и сморозила глупость! – хохочет Лейла.
– Это правда. Он бросает бомбы на айсберги.
– Чушь! Ничего он не бросает!
– Нет, бросает!
Я кладу на каждую тарелку по листику базилика и по нескольку ломтиков помидора и ставлю тарелки на стол. Окажись мой брат русским шпионом, бомбардирующим Северный полюс, все было бы намного проще, чем в действительности.
После завтрака девочки уходят в свою комнату, наряжаться для детского праздника в честь дня рождения одноклассницы. Надир обнимает меня и склоняет голову мне на плечо. Я искоса смотрю на него, любуясь мягким прищуром его глаз, чуть впалыми щеками, чуть заметными морщинками на лбу. Его волосы, густые и жесткие, торчат вверх, презирая закон земного притяжения, и не прикрывают уши. Налет седины на висках выдает его возраст. Он на шестнадцать лет старше меня. Разница в точности такая же, какая была у мамы с Элайасом. Простое совпадение, часто повторяю я себе.
Я люблю своего мужа, хотя поначалу никакой любви к нему не испытывала. Мы оба сознавали, что я не отвечаю взаимностью на его нежную преданность. Каковы были мои тогдашние чувства к нему, я сама затруднялась определить. Смесь уважения, восхищения, привязанности, а самое главное, благодарности за то, что он вытащил меня из трясины, в которой я барахталась. Прежде мне не раз доводилось слышать рассказы людей о том, как совместная жизнь с другим человеком «преобразила» их. Я относилась к ним с недоверием. До тех пор, пока это не случилось со мной.
После того, что произошло в последний день ноября 1978 года, семья наша начала таять, как снеговик под яркими солнечными лучами. От нашей прежней жизни осталась лишь грязная лужица. То, что казалось прочным и незыблемым, внезапно стало призрачным и обманчивым. Некоторое время мы с Юнусом прожили в доме у дяди Тарика и тети Мерал. Их нельзя было упрекнуть ни в грубости, ни в жадности, но я с содроганием вспоминаю о каждом дне, прожитом рядом с ними. Я никогда не смогла им простить, что они пятнали имя моей матери, распускали о ней грязные сплетни. И даже когда я жила под их крышей, ела за их столом, носила одежду, купленную на их деньги, они оставались для меня самыми ненавистными существами на свете. Поначалу папа присылал нам из Абу-Даби открытки, подарки и деньги, но с годами он стал напоминать о себе все реже, а потом контакты с ним прекратились полностью. Тетя и дядя, пока это было возможно, скрывали от нас, что отец покончил жизнь самоубийством. Прятали правду, маскировали и приукрашали ее. Точно так же я поступаю теперь со своими детьми. Как видно, это наша семейная традиция. Мы хороним правду так глубоко, что она начинает разлагаться, и потом ее при всем желании уже невозможно извлечь наружу.

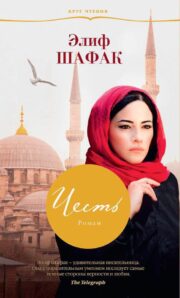
"Честь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Честь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Честь" друзьям в соцсетях.