– Вот видите, – весело констатировал Дамьен. – Это меня радует. Я всегда немного опасался, что вы умнее других. Любезная подруга, я прошу прощения, что задержал вас…
– Подождите, – вскричала я, хватая его за рукав. – Если вы дорожите своей репутацией, объяснитесь. То, чего я не понимаю, обычно не внушает мне почтения. «Ничего не давай…» Что значит – ничего?
Ни цветов, ни венцов? Ни украшений, ни банкнот, ни произведений искусства? О чём идёт речь: о безделушках, золоте, доверии, движимом или недвижимом имуществе?
Он многозначительно склонил свою круглую, прекрасно сработанную голову:
– Именно обо всём этом. Я признаю, что трудно не нарушать правил. Но вскоре догадываешься, что браслет отравлен, кольцо скрывает измену, бумажник и ожерелье вносят в сны беспокойство, а деньги утекают в игорный дом…
Я забавлялась тем, что он вновь обрёл свой назидательный тон, гордится мудростью, до которой дошёл своим умом, и высокомерен, как сельский искатель подземных родников.
– Не следует ни давать, ни получать? – сказала я со смехом. – А если любовник беден и любовница терпит нужду, значит ли это, что Она и Он должны деликатно позволить друг другу умереть?
– Дайте им умереть, – отозвался он.
Я проводила его до застеклённой двери вестибюля.
– Дайте им умереть, – повторил он снова. – Это не самое страшное. Я готов поклясться честью, что никогда ничего не дарил, не одалживал и не давал взамен, кроме… этого…
Он указал на себя и описал обеими руками замысловатый жест, слегка прикасаясь на лету к своей груди, губам, паху и бокам. Внезапно, должно быть, от усталости, он показался мне зверем, вставшим на задние лапы и перебирающим невидимую пряжу. Затем, вновь приняв чёткий человеческий облик, он открыл дверь и легко растворился в царившей снаружи ночи, где море было уже немного светлее неба.
Память об этом человеке мне дорога. Я никогда не испытывала недостатка в добрых друзьях, но реже в моей жизни встречались друзья, которые не были добрыми, те, что из-за чувственности, как бы витавшей в воздухе между ними и мной, казались немного враждебными, поначалу блестящими, а затем потухшими… Мне нравилось, что Дамьен прикован к своему заблуждению, как мы именуем веру, которую не исповедуем. Кроме того, он соответствует моему неизменному пристрастию к таинственной пустоте, к некоторым избранным существам с их постоянной так называемой парадоксальной уравновешенностью, в особенности пристрастию к разнообразию и незыблемости их чувственного кодекса чести. Не просто кодекса чести, а поэзии, как у Дамьена, который вносил лиризм в слова «дайте им умереть», а также лирически покидал – «я был просто обязан» – своих возлюбленных. Я не хотела приводить его в изумление, указав, что в словах «я был просто обязан» коренится его простодушие и что, намереваясь быть расчётливым, он ведёт себя как поэт и фаталист. Его неблагодарное горячо любимое дело загоняло его в тупик, и я могла бы немало о нём узнать от него самого, если бы он, противясь осмысленной схватке, не прибегал к шарлатанству хищников, наставляющих своих отпрысков: «Смотрите: вот так я прыгаю, и так же должны прыгать вы». – «Почему?» – «Потому что так следует прыгать».
Я блуждаю в тени этого воспоминания. Если Дамьен ещё жив, ему за семьдесят. Пришла ли пора его избавления? Чего он стоит, добившись освобождения? Если он прочтёт эти строки и эту книгу, которой я пытаюсь внести свой личный вклад в сокровищницу познания чувств, он улыбнётся улыбкой невозмутимого ничтожного господина и пожмёт плечами. Если он женился на склоне лет на какой-нибудь славной особе, то он скрывает от неё свою былую сущность Дамьена: в ней – его последнее утешение и предсмертная тень. Какой другой конец приличествует Дамьену, как не преждевременная кончина? Однако преждевременная смерть не грозит человеку, давшему подобный обет завоевателя, одинокого и бесплодного беглеца; он давно созрел для смерти.
Он воплощал тип человека, которого другие мужчины единодушно называют «субъектом, не представляющим ни малейшего интереса». Я видела, как, сталкиваясь с обычными мужчинами, он мгновенно терялся, ощущая неловкость от их соседства. Если они рассказывали в его присутствии «бабские сплетни», он лишь подавал с места реплики. Однако вокруг него распространялось некое поле, столь же неуловимое, как запах духов, которое мало-помалу воспринимали присутствующие мужчины, и оно внушало им неприязнь. Они объясняли свои чувства как могли. «Чем он занимается, этот тип? – спросил меня один из них. – Я не могу его раскусить. Готов поспорить, что он педераст». Я позабавилась тем, что этот мнительный человек так наивно выдал свою собственную очевидную двойственность: он весь вспотел от волнения, был напряжён, как недотрога перед сильным соблазном, и бросал на подозреваемого презрительные взгляды, которые я подметила у одной из любовниц Дамьена, прежде чем она отдалась ему. Поначалу она тоже именовала его «субъектом». Когда она сидела рядом с ним, а затем вставала, она хлопала по своей юбке, точно стряхивая крошки, и меня поражал этот жест, смахивающий на болезненный тик.
– Оставьте её в покое, – сказала я Дамьену.
– Я ничего ей не говорю, – ответил он. Действительно, он всего лишь держался подле неё и говорил ей довольно банальные слова. Она же неизменно нервно вскакивала и не таясь направлялась к выходу, будь то терраса казино, окно гостиной или дверь, ведущая в сад… Он был вполне доволен и тоже поднимался с места. Вернувшись, она принималась искать Дамьена вслепую; иными словами, я видела, как раздуваются, втягивая воздух, крылья её безупречного маленького носика и как она двигает пустые стулья быстрыми резкими движениями. Она-то и навела меня на мысль, что все мы, находясь возле этого человека, дышали некоей сладостной отрадой, которую я, несомненно, ласкательно приписываю обонянию – самому благородному из наших органов чувств.
Дальнейшие отношения любовников разворачивались традиционно: юная женщина то краснела, то бледнела у всех на виду, делалась то угрюмой, то весёлой, казалась всё более старой, пока сопротивлялась, и резко помолодела, когда перестала сопротивляться. В час, когда, по выражению Дамьена, в соответствии с присущей ему убеждённостью, «я был просто обязан…», она бесследно исчезла, словно Дамьен бросил её на дно колодца.
Вероятно, он выглядит бледно в моём изложении, этот злополучный человек, раздававший наслаждения всем подряд, но, видимо, он был неспособен составить счастье одной-единственной женщины, даже если бы этого захотел. Он также заходил по-своему «слишком далеко» – в том смысле, что предоставлял даруемому им удовольствию неограниченный кредит. Что терзает любовника сильнее: навязчивая идея силы или навязчивая идея полового бессилия?
Что бы сказал Дамьен, встретив женщину, которая обманывает мужчин, великодушно симулируя наслаждение? На этот счёт я спокойна: он неизбежно сталкивался с Шарлоттой, и, должно быть, не раз.
Она потчевала его своими надтреснутыми руладами, отворачивая лицо, и между тем волосы падали ей на лоб, щёки, полузакрытые ясные глаза, неравнодушные к радости своего повелителя… У Шарлотт почти неизменно длинные волосы…
В то время, когда Дамьен не вызывал у меня никаких чувств – или мне это казалось, – я намекнула ему, что мы могли бы стать неплохой парой для путешествия, парой учтиво эгоистичных и покладистых спутников, обожающих долгие паузы…
– Я предпочитаю путешествовать только с женщинами, – ответил он.
Мягкий тон мог бы заставить проглотить эту колкость… Но он испугался, что я рассердилась, и «уладил» дело ещё более грубым оскорблением:
– Разве вы женщина? Уж не взыщите… Соперник, посрамлённый другим соперником, тем не менее отдаёт дань превосходящей скорости противника с его врождённой способностью покрывать дистанцию так, что ветер свистит в ушах. Слова Дамьена довольно долго причиняли мне боль; волею судьбы они стали одними из последних его слов. Мне не представилось больше случая признаться ему, что в тот период я в глубине души страстно желала быть женщиной. Я не намекаю на свой прежний облик, рассчитанный на публику, который я нарочито упорядочила, вплоть до его мифической стороны, внешних мелочей и костюма.
Я имею в виду ту неподдельную психическую дву-полость, поражающую некоторых людей недюжинного склада. Безапелляционные речи Дамьена рассердили меня, так как я надеялась тогда сбросить с себя эту двойственность, избавиться от её изъянов и преимуществ и швырнуть их ещё неостывшими к ногам мужчины, которому я предлагала недурное женское тело с его, возможно, призрачным призванием рабыни. Однако мужчина не ошибался на этот счёт. Он распознал во мне мужские черты, которые я была не в силах определить, и поспешил прочь, хотя испытывал искушение. Затем он вернулся, преисполненный досады и недоверия. Тогда мне и в голову не пришло воспользоваться предостережением, которое мне дал Дамьен.
Какая польза предупреждать слепца? Он полагается лишь на своё непогрешимое пресловутое чутьё и непременно хочет самолично набить себе шишек, не перекладывая ответственность на других. Так я набивала себе шишки тупым и добросовестным образом…
– Поистине, тут нечего гадать, – сказала мне как-то раз Маргарита Морено. – Почему ты никак не смиришься с мыслью, что некоторые женщины представляют для некоторых мужчин угрозу гомосексуализма?
– Должно быть, эти слова – бальзам для нашей с тобой гордости, Маргарита, если не для всего остального. Но коль скоро ты права, кто же будет считать нас женщинами?
– Сами женщины. Только женщин не оскорбляет и не вводит в заблуждение наш мужской ум. Загляни в свою память…
Я остановила её жестом, по заведённому между нами простому обычаю прерывать собеседницу на полуслове, как только та, что слушает поймёт, что хочет сказать другая. Маргарита Морено решила, что я перебила её из соображений приличия, и умолкла. Невозможно вообразить количество тем и слов, которые две женщины, способные сказать друг другу всё, исключают из разговора. Они предоставляют себе роскошь выбора.
– У стольких мужчин в душе есть что-то бабское… Я говорю: в душе, – продолжала Морено.
– Я слышала, – ответила я мрачным тоном.
– …Ибо в смысле нравственности они безупречны и даже весьма принципиальны!
Оживляясь, я кивнула в знак одобрения.
– …А также отважны в традиционном, я бы сказала, боевом значении слова. Но только послушай, какой они поднимают крик, когда их слегка коснётся божья коровка или пролетающая пчела; только погляди, как они бледнеют, стоит выползти чёрному таракану или его двоюродной сестре – уховёртке!..
– «Только погляди, как они…» Неужели их так много, Маргарита?
Она наклонила голову с серьёзным всеведущим видом, который кажется зрителю столь смешным на экране.
– А мы? Мы, подвергающие их «опасности гомосексуализма», наше число столь же велико?
– К сожалению, до этого очень далеко. Всегда можно договориться с тем, кто равен тебе, хотя бы в количественном отношении. Я ещё не закончила. Я остановилась на таракане. Но разве ты сама не видела, как они устраивают дикие сцены во время свидания наедине; разве ты не замечала, что они никогда не забывают неотрывно смотреть не на лицо, а на руки женщины, которую осыпают бранью?
– А если это мужчина?
– Они не станут устраивать сцен мужчине. Они его презирают ибо втайне боятся, и предпочитают вызывать его на дуэль, лишь бы избежать разговора с ним.
Я рассмеялась – хорошо оценивать издалека когти былых, ещё паясничающих свежих угроз, а также подтрунивать над ними…
– …Наконец, – продолжала ясновидящая, – если они часто ошибаются в выражении наших лиц, то более уверенно справляются, оказавшись позади нас, с выражением наших спин… Ах! Какой у них милый смех и как легко они могут расплакаться!
Она выругалась по-испански и состроила гримасу какому-то воспоминанию.
Затем она зевнула и перестала противиться сну.
Её пронзающий бесполый взор слегка смягчился, как только она положила голову на спинку кресла, погружаясь в кратковременный сон тренированных тружеников, которые знают, как восстанавливать свои силы, и набирают сон по минутам: десять минут дремоты в автобусе и метро, четверть часа забытья в репетиционном зале, на табурете, изображающем то письменный стол эпохи регентства, то изгородь из боярышника, да десять минут в объятиях Морфея под тропическими пальмами киностудий. Они спят сидя, спят, опершись на локоть, сном озабоченных усталых ответственных работяг… Во сне она была похожа отчасти на Данте, отчасти на хитрого идальго, отчасти на святого Иоанна Крестителя кисти Леонардо да Винчи. Если срезать драгоценную растительность с головы, спрятать грудь, руки, живот, что останется от нашей женской наружности? Сон ведёт бессчётное множество женщин к форме, которую они бы, несомненно, избрали, если бы состояние бодрствования не держало их в неведении относительно самих себя. То же самое можно сказать о мужчине… О, прелести спящего мужчины, вы всё ещё стоите перед моим взором! Он весь, от бровей до губ, за смеженными веками был воплощённой улыбкой, беспечностью и лукавством султана, сидящего у окна с деревянной частой решёткой… Я же, та, что «страстно желала», глупышка, быть женщиной до конца, рассматривала его с мужской досадой, этого человека, приходившего в волнение от красивого стихотворения или пейзажа, человека, у которого был такой милый смех…

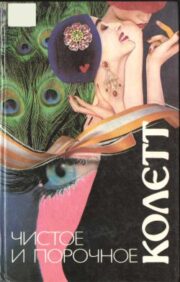
"Чистое и порочное" отзывы
Отзывы читателей о книге "Чистое и порочное". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Чистое и порочное" друзьям в соцсетях.