Когда она отодвинула тарелку и взяла еще одну бумажную салфетку, ее взгляд снова скользнул по зеркалу. И она вновь увидела в нем отражение Джозефа Уоткинса.
Тот, похоже, позабыл, что у него в руке чашка с кофе, вглядываясь в шумящую за окном непогоду так пристально, словно раньше такого никогда не видел. Но, может быть, он действительно давно не видел ливня, сообразила она. Запертый в четырех стенах камеры, он, наверное, не мог лицезреть смену времен года, не говоря уже об ощущении снежинок или капелек дождя на улице. А то, что он не часто бывал на солнце, она определила по его бледности. Это пробудило в ней сочувствие. Ни одно человеческое существо не заслуживает отлучения от природы.
Уоткинс вдруг резко повернул голову и заметил, что Нэнси смотрит на него.
Даже под его отраженным в зеркале взглядом Нэнси почувствовала себя неуютно. Несмотря на жгучее желание написать очерк, она не могла не понимать, что ее интерес к пленнику задевает того хотя бы тем, что отвлекает от созерцания дождя. Впрочем, вряд ли такого крутого мужчину, как Джо Уоткинс, что-то могло всерьез задеть, ведь он был преступником, не заслуживающим снисхождения.
Явно меньше заинтересованный в ней, чем она в нем, он снова отвел взгляд к окну. Надо проявлять инициативу, решила она. Такое интервью может стать пиком ее карьеры.
Она полезла в свою полотняную сумку за пресс-картой и маленьким блокнотом, который всегда был при ней.
Уоткинс успокаивал нервы, сосредоточенно глядя на воду, струящуюся по оконному стеклу. Только так он смог удержаться от того, чтобы не рассматривать молодую женщину, привлекшую его внимание с того момента, когда они с конвоиром вошли в ресторан.
Господи! Как же его забрало, когда он случайно коснулся ее коленок! А потом увидел ее глаза, голубые и чистые как небо, которого он был лишен в камере. В нем все дрожало от острого приступа желания, охватившего его, прежде чем он успел сообразить, что происходит. И хотя Нэнси не могла этого знать, он уже преподнесла ему бесценный подарок, посмотрев на него глазами, в которых не было презрения или страха, как у остальных.
Осторожнее, не вздумай рисковать, предупредил себя Уоткинс. Тем более когда она уже едва не лишила его самообладания, строгого, как у монаха, которое только и поддерживало его телесное здоровье. То есть помогало выносить тот образ жизни, который ему пришлось вести, будучи запертым в клетке подобно дикому зверю.
Через несколько кратких часов полусвободы железная дверца клетки вновь захлопнется за ним. Он бы никогда не подумал, что вдруг захочет поскорее вернуться в свою камеру. Но чем больше времени он проведет возле этой волнующей женщины, тем мучительнее будет возвращение в суровый мир затворников. Она напомнила ему слишком многое из того, о чем он не осмеливался ни думать, ни даже мечтать…
Эротические фантазии, изредка прорывавшиеся сквозь трезвое сознание в беспокойные сны, всегда поставляли ему знойных брюнеток с роскошными формами. Эта, реальная женщина, была белокурой, хрупкой как тростинка, с маленькой грудью. Ее белые прогулочные шорты обнажали ноги, не такие полные, как у женщин его сновидений, но длинные, хорошо очерченные и мускулистые. Не было смысла задумываться, сможет ли он обхватить ладонями ее тонкую талию. Этому никогда не сбыться.
Ее светлые волосы, напоминающие о солнечном сиянии, были подстрижены коротко, как у мальчика. Но абсолютно ничего мальчишеского не было в нежном овале лица и чистой, свежей коже. При виде ее соблазнительного рта с пунцовыми, чуть приоткрытыми губами у него мучительно заныло в паху.
Несомненно, это была самая красивая из женщин, на которую он когда-либо положил глаз. Открытая, чистая и свободная. Полная противоположность ему нынешнему.
И абсолютно вне пределов его желаний.
Пожалуй, будет менее болезненно сейчас же перестать соблазняться ее красотой, решил Уоткинс, чем унести с собой в камеру мучительно ясный образ, которым ему никогда не обладать. Его рассердило, до чего же легко ей удалось поколебать железное самообладание, которым он так гордился. Больше такого не случится, пообещал он себе.
Он крепко сжал чашку с кофе, чтобы быть уверенным, что его руки не наделают каких-нибудь глупостей вроде попытки погладить ее. Когда она подошла к их столику, он уже знал, что ничего такого себе не позволит. И все же невольно вздрогнул, когда она заговорила.
— Я — Нэнси Пикфорд, сержант, — представилась она конвоиру.
Ее голос был звучнее, чем представлялось Уоткинсу, и для мужчины, отвыкшего слышать женскую речь, походил на пение ангела. Она положила на стол кусок пластика — видимо, пресс-карту.
— Я репортер и хотела бы поговорить с вами, — продолжила красотка.
Иронический смешок застрял у Джо в горле. Конечно, с ним так и должно было произойти. Единственная женщина, не считая матери и сестры, с которой он столкнулся с тех пор, как его упрятали под замок, и та из гнусного племени писак, растерзавших его еще до того, как официальное правосудие вынесло свой вердикт!
— Конечно, мисс Пикфорд, — любезно сказал его страж. — Садитесь, пожалуйста.
Нэнси присела за столик и открыла блокнот.
— Вы сказали, вас зовут Паттерсон?
— Верно, Томас Паттерсон. Меня все зовут Томом.
Она старательно записала имя. Разумеется, получить интервью у любезного полисмена будет нетрудно. К нему не надо было подлаживаться, можно было валять напрямую.
— Почему осужденный убийца не в своей камере?
— Не беспокойтесь, мисс. Уоткинс не причинит вам вреда.
Сержант потянул за цепь, оторвав руки пленника от чашки с кофе. Это действие, всего лишь несколько неуважительное по отношению к человеку, заслуживающему гораздо худшего, насторожило ее.
— О, я не это имела в виду. Вы сказали, что везете его обратно в Сейлем. Но почему он вообще не в тюрьме штата Северная Каролина, где должен отбывать двадцать лет? Что вы делаете вдвоем на наших горных дорогах?
— Семья Уоткинсов имеет связи в верхах. Ему предоставляли краткосрочный отпуск для прощания с матерью. Она умерла пару дней назад. Рак.
Нэнси вздохнула. Она совсем забыла, что у приговоренного была семья. Брат, который твердо отстаивал перед журналистами невиновность Джозефа, и сестра-подросток, быстрая на слезы, столь любимые прессой. Она не помнила, чтобы показывали его мать в выпусках новостей из суда. Но та, должно быть, там была, делая обязывающие заявления. Мой сын — хороший мальчик. Никогда нас ничем не огорчал. Не могу поверить, что он сделал это.
Она давно усвоила, что гораздо легче соблюдать благородное презрение к преступнику, когда это всего лишь отдаленный образ на экране телевизора, чем когда это человек из плоти и крови, сидящий в двух футах от тебя. Мужчина, прикосновение которого взволновало тебя. Сын, переживающий смерть матери. Интересно, а убийцы плачут? — подумала она.
— Сочувствую вам, мистер Уоткинс, — пробормотала Нэнси и даже протянула было руку, но он не высунулся из своей раковины и она не решилась дотронуться до него.
Бесстрастные серые глаза полыхнули навстречу ей. Ранее Уоткинс даже не удосужился обернуться на нее, когда она подсаживалась к их столу.
— Никому вы не сочувствуете. Репортеру плевать на все, кроме своей стряпни.
От его гортанного голоса у нее пробежал холодок по спине. Она совершенно не помнила, как этот голос звучал в теленовостях, и ждала, что он окажется таким же жестким, как и лицо. Как ни странно, он произнес язвительные слова без злобы, тоном равнодушного наблюдателя. Сам он выглядел каким угодно, только не безвольно расслабившимся. Хотя полисмен и усадил его так, что можно было свободно откинуться на спинку стула, поза Уоткинса была по-прежнему напряженной. И если бы он покрепче сжал кофейную чашку, та бы наверняка хрустнула.
Нэнси всегда раздражало, когда охаивали репортеров. В мире хватало убийственных примеров горькой участи прессы стран, лишенных свободы слова. Не было смысла искать суть таких обвинений, но и промолчать она не могла.
— Это неправда по отношению к большинству репортеров. И уж, конечно, по отношению ко мне. Хотя, не скрою, я хотела бы написать о вас очерк, мистер Уоткинс. Читателей заинтересует тюремный опыт человека, ставшего в своем роде знаменитостью.
— Сомневаюсь, мисс щелкопер.
Обескураживающая резкость ответа не очень-то подействовала на нее. Она никогда не терялась после первого отказа. Часто случалось так, что человек, вначале пославший репортершу куда подальше, потом охотно изливал перед ней душу.
Резким движением головы она отбросила волосы со лба.
— А почему нет? Очерк вам ничем не повредит и, может быть, даже окажется полезным. Ведь ваше дело, насколько я знаю, все еще на апелляции. Не так ли? Может быть, я сумею помочь вам. Не могу, разумеется, ничего обещать, но делом осужденного, имя которого снова появилось в прессе, могут заинтересоваться власть имущие и быстрее пересмотреть его.
— Я не такой дурак, чтобы думать, что вы или какой-нибудь другой писака хоть чуть-чуть заинтересованы помочь мне. После смерти отца ваша братия растерзала меня в клочья, словно стая голодных акул.
Больше я вам этого не позволю. Я даже не могу проводить свою мать в последний путь, не опасаясь, что люди вроде вас поднимут в газетах непотребную возню.
Нэнси поняла, что он смотрит на нее лишь как на представительницу презираемой им профессии. Может быть, небезосновательно, подумала она. Она считала, что пресса обошлась с ним излишне сурово. Возможно, ей удастся переубедить его, представив себя добросердечной, сочувствующей женщиной, которой он вполне может довериться?
— Послушайте, мистер Уоткинс, я…
— Нет, послушайте вы, — отрезал он по-прежнему хладнокровно. Выпятив острый подбородок, поднял сжатый кулак над столом на те несколько дюймов, что позволяли оковы. — Сейчас я прискорбно мало могу распоряжаться своей жизнью, ею управляет закон. Но даже закон не может заставить меня беседовать с вами.
Сержант пожал плечами.
— Весьма сожалею, леди. Но он и вправду не обязан говорить с вами, ежели не хочет.
Нэнси пришлось отступить.
— Ладно, мистер Уоткинс. Как вы заявили, я не могу заставить вас дать мне интервью. Но заметим не для протокола, что ни вас, ни кого-либо другого я не намерена принуждать. А что касается закона, то он управляет вашей жизнью лишь по вашей вине. Как и все мы, вы пожинаете плоды своих неразумных поступков.
Он шумно вздохнул и, кажется, хотел возразить. Но лишь плотно сжал губы и промолчал. Не будь ее внимание столь обострено, она ни за что бы не перехватила его короткий взгляд, наполненный глубоким отчаянием, настолько откровенный, что ей пришлось смущенно опустить глаза. Когда же она снова подняла их, Уоткинс вернулся к разглядыванию дождя за окном.
Интересно, подумала Нэнси, осознавал ли он, что чувства, которым он так старательно не давал проявиться ни в гримасе, ни в голосе, вдруг вырвались наружу во взгляде? Ей казалось, что нет. Но даже если это было наигранной попыткой вызвать ее сочувствие, то она не удалась. Тюрьма — не курорт, но убийца заслужил то, что имел.
— Лично я буду рад поговорить с вами, мисс Пикфорд, — заявил сержант.
— Благодарю вас. Может быть, чуть позже.
То, что ей было нужно, она надеялась получить только от самого Уоткинса. Без этого комментарии полисмена не имели смысла.
Но она не собиралась сдаваться. Гроза не подавала никаких признаков ослабления, пожалуй, наоборот, пуще ярилась. Сумерки в этот майский день должны были начаться лишь через несколько часов, но красно-зеленые зазывные огни бара уже ярко мерцали в сгустившемся полумраке за окном над головой Уоткинса. А дождь с такой силой барабанил по крыше одноэтажного здания, что говорить становилось затруднительно.
Обычно грозы в горах коротки, хоть и жестоки. Но эта бушевала уже несколько часов, и Нэнси начала подумывать, как бы всем застигнутым ненастьем в ресторанчике не пришлось тут же коротать ночь. Даже если ливень кончится, пройдет немало времени, пока затопленные дороги станут проезжими.
Ресторанная мебель не создана для того, чтобы проводить здесь долгие часы. Это может надоесть кому угодно, даже человеку, прячущему свои карты подобно Уоткинсу. Возможно, позднее он подобреет хотя бы от скуки. Не желая разговаривать с ней, он что-то промолвил. Даже простое «нет» — это уже разговор. Неприязнь к прессе не означала, что он вообще никогда не заговорит с женщиной. Она надеялась, что заговорит.
Первоначальное безразличие у нее сменилось острым любопытством и даже симпатией к человеку в железных оковах.
Нэнси полагала, что психологический очерк мог бы помочь результату его апелляции. Пусть даже не явно сочувствующий. Она хотела сделать упор не на убийстве — старой новости, а на теперешней смерти его матери, на том, что произошло с его семьей после приговора. А такой хорошо образованный человек, как Уоткинс, должен был бы сообщить множество интересных деталей тюремной системы, подмеченных внутри нее.

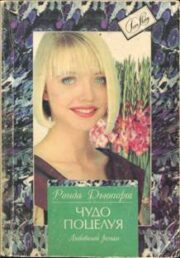
"Чудо поцелуя" отзывы
Отзывы читателей о книге "Чудо поцелуя". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Чудо поцелуя" друзьям в соцсетях.