– Я хотел надежности, хоть чуточку надежности, а наткнулся на этого ничтожного членососателя, трахающего свою собственную мать, – совсем запутался в ругательствах Эйб. Его крупное жирное лицо было настолько мокрым от пота, что он мне вдруг напомнил молодого гиппопотама, вылезающего из водоема. Марта натягивала на себя пальто.
– Ладно, мы всех увольняем, – сказал Эйб. От этих слов Фолсом вывалил из рук несколько журналистских наборов.
– Всех не можем, – сказала Марта, – сотрудники безопасности – в штате отеля.
– Ну так что? – разозлился Эйб. – В этом отеле нас знают. Поверьте мне, знают. Скажите, что они плохо несли службу, в рот мать их, совсем плохо. А как сюда попал этот сосунок, а? Нам никаких таких сосунков не надо. Почему не было Кэнби? И где была Паулина Каель?
– С мистером Кэнби Пил встречается завтра за обедом, – сказала Марта. – А про мисс Каель мы до сих пор еще ничего не знаем. Возможно, они встретятся в субботу.
– Нам вообще не стоило привозить эту траханную картину, – рвал и метал Эйб. – Вот из-за таких-то вонючих заумных фильмов всегда оказываешься в дерьме. Надо было привезти «Убийцу младенцев», а еще лучше – не приезжать совсем.
– Ну ладно вам, не так уж и вредно время от времени делать картины для полоумных, – примирительно сказала Марта.
– Фолсом, машина здесь? – потребовал Эйб. – Вы так и не достали мне винт-о-гриновских «Спасателей жизни», как я велел. Машина здесь?
В этот момент Фолсом тащил уже столько журналистских наборов, что походил на вьючное животное, и к тому же просто отчаянное: такое животное может ринуться со скалы, прямо со всем своим грузом. Так вьючные животные иногда себя ведут в фильмах, где им приходится пересекать горные местности. Такое отчаянное состояние Фолсома было вполне объяснимо: только что ему было одновременно задано два вопроса, а мозги его могли справиться лишь с одним вопросом за раз.
– У них все Винт-о-Грины кончились, – выдавил из себя Фолсом, смиренно кладя свою голову на плаху.
– Ну и пусть! Это что, был один на весь мир киоск, и других не было? – спросил Эйб. – Я, что, велел вам не ступать на тротуар или еще чего-нибудь такое. Вместо того, чтобы хорошенько поискать вокруг нужные мне таблетки, а для этого надо проявить изобретательность, вы приволокли мне эти перетраханные, эти приправленные вишней говняные свечи. Я бы с удовольствием запихал их прямо в задницу Джейма Пратто. Всадил бы ему в зад пару приправленных вишней свечек, как бы это выглядело, а?
Представив себе это зрелище, Эйб развеселился. И до того, как он снова водрузил на нос свои темные очки, в его глазах мелькали довольные огоньки. А потом, очевидно, взгляд его упал на меня. Очки Эйба сфокусировались на мне, как дула револьверов в фильмах-вестернах. Дула револьверов никогда не дрожат, как никогда не дрожат Мондшиемы.
– Не будь таким мрачным, Эйб, – сказал я. – Пресс-конференции ровно ничего не значат. Ведь у тебя фильм-призер.
– Мы с ним разговариваем или нет? – спросил Эйб у Марты. – А зачем это нам? Он ведь не с нами.
– Возможно, ты, молодой человек, об этом забыл, но ведь я был на твоем первом дне рождения, – сказал я. – Тебе тогда было годика три.
– А это ничуть не значит, что вы собой что-то представляете, – сказал Эйб. – Это совсем не значит, что мы желаем с вами разговаривать.
– Это ты ничегошеньки собой не представляешь, ты – щенок-сосунок, – сказал я, как нельзя более удачно подражая манере Сиднея Гринстрита.
Упоминание о том, что он был ничтожеством, резануло Эйба так, как будто по нему пальнули шрапнелью. Начальникам постановочного отдела не очень-то свойственно чувствовать главенство истории по сравнению с эфемерностью людей. Моя наглость все-таки вызвала у Эйба легкое удивление, какое возникло бы у акулы, если бы на нее вдруг напал окунь.
– Вы только послушайте этого идиота, – обратился он к Марте, правда, весьма рассеянно.
Ум Эйба, разумеется, в отпущенных ему пределах, уже витал где-то в другом месте.
Фолсом, испарившись из комнаты всего за минуту до этого, возник снова. Лицо его скорчилось и выражало нечто, что я бы мог назвать гримасой. Тем не менее, оказалось, что это была улыбка триумфатора.
– Машина готова, мистер Эйб, – выпалил Фолсом. – И лифт тоже. Я его для вас попридержал.
Со стороны Фолсома это было смелой попыткой реабилитации. Эйб отнесся ко всему как к само собой разумеющемуся.
– А как насчет Винт-о-Грин? – спросил он, направляясь к выходу.
Я подошел к Питу Свиту, который нервно зажигал сигарету.
– Ну, наконец-то знамениты, – сказал я. – Поздравляю.
– О, мать твою, – сказал Пит. – Уж лучше бы я поехал на трек. – Думаю, это посильнее телевидения, – добавил он довольно меланхолично. Никому никогда не доводилось докапываться до того, что в глубине души Пита таилась грусть, но она там, несомненно, была. Именно грусть заставляла его замедлять шаги и беспрестанно смотреть в пустое пространство. Из-за нее он так скверно играл в карты. Грустный, большой мужчина, против которого не могла устоять ни одна женщина. Однако ему самому нравились женщины малоприметные, на которых он обычно очень быстро женился, чтобы потом так же быстро развестись.
Ко мне подошла Анна и быстро меня чмокнула.
– Правда, он очень милый, когда грустит? – сказала она, обнимая Пита. Она вся сгорала от нетерпения, как будто вот-вот начнет танцевать румбу. Пит обхватил ее своею лапищей, и она уютно разместилась у него под мышкой, как у себя дома. Между этими двумя уже давно был роман; он то прерывался, то возникал вновь, и тянулось все это столько лет, что мы все давно потеряли им счет.
Джилл очень спокойно, с надлежащим вниманием, слушала вопросы, задаваемые ей двумя серьезными студентами. Они каким-то образом сумели просочиться на эту пресс-конференцию. Теперь они изливали наружу то, что так долго вынуждены были держать взаперти. Им было просто необходимо поговорить с кем-нибудь из профессионалов. Пит, Анна и я взирали на эту сцену, как родители, наблюдающие за своей любимой дочерью. Анна испытывала к Джилл очень сильное материнское чувство, а Пит – своеобразное грустно-отеческое. Пит был убежден, что Джилл совершенно не разбирается в мужчинах и поэтому обязательно остановится на самом что ни на есть скверном. Я согласился, что Джилл в мужчинах ничего не смыслит, но не стал спорить о том, когда и как она остановится, особенно – на ком.
Когда оба студента наконец-то ушли, Джилл подошла к нам. Вид у нее был немножко рассеянный. Пит подтолкнул ее к себе под вторую мышку.
– Ты и в самом деле читала Белу Балаша, или как там его? – спросила она у Анны.
Анна расхохоталась.
– Я просто обезьянничала, – призналась она.
На продуваемой ветром улице наша группа распалась. Мы с Джилл остались на тротуаре и стали наблюдать, как по Пятой авеню течет желтая река такси.
– Не очень-то похоже на Малибу, да? – сказала Джилл, подняв глаза на зеленоватые башни отеля. Недалеко от нас помешивал угли торговец сухими солеными кренделями, и от его жаровни вздымался дым. До нас доносился запах хлеба. По тротуарам двигались представители манхэттенского племени; от их дыхания было столько же пара, сколько дыма бывает от древесного угля. Прошли и представительницы этого племени; те, что помоложе, были высокими, элегантными и безмятежными; старые же были скрюченными и приземистыми.
– Я так сказала потому, что это начиналось на Малибу, – сказала Джилл. – Первые десять страниц сценария я написала, сидя на полу. А Пит и Анна в это время коптили котелок. Я не представляла себе, что именно тут все и кончится.
Стрижка у Джилл была короткая, тем не менее ветер все равно умудрился растрепать ее волосы так, что они оказались в очень соблазнительном беспорядке. Щеки у Джилл теперь порозовели, и она уже не выглядела рассеянной. Она была воплощением жизни – женщина, которая упивается всей полнотой момента.
– Никто не может увидеть конца, когда все только начинается, – сказал я. – Даже я.
– Дерьмо, – сказала Джилл. Локтем она оттолкнула меня с края тротуара. – Мне бы следовало знать, что ты обязательно прокаркаешь какое-нибудь изречение еще до того, как мы перейдем улицу.
ГЛАВА 9
Джилл расчесывала волосы, когда я небрежно положил на ее туалетный столик футляр с украшением. Нам через пять минут надо было уходить, но я именно так все и задумал.
– Ого! – сказала Джилл. На ней было белое платье, прикрывавшее только одно плечо – для Джилл такой фасон был необычайно смелым.
Когда Джилл увидела сверкающий сапфир, она подняла его и прижала к груди. Потом вздохнула и благодарно взглянула на меня.
– Мы поговорим об этом позже, – сказала Джилл и надела украшение.
– Тебе бы надо было быть метрдотелем, – заявила Марта, увидев меня в смокинге.
Мне подумалось, что она начала ко мне как-то привыкать. За всю поездку в Центр Линкольна никто не проронил ни слова. Мы с Джилл раньше могли разговаривать в абсолютно любых ситуациях, но оказалось, что в лимузинах нам говорить не о чем.
Когда мы входили в Центр Линкольна, направляясь к выстроившимся в ряд фотографам, Марта сделала очень профессиональный жест. Она вдруг взяла мою руку, соединила со своей и чуть-чуть отвела меня в сторону. Неизвестно откуда появился Эйб, одетый в темно-лиловый смокинг. Эйб взял Джилл за руку. Честно говоря, я несколько удивился, что иду, взявшись за руки с Мартой, но раздражения это у меня не вызывало. Реклама есть реклама. Мы с Мартой прошли сквозь строй фотографов и, никем не замеченные, направились в большой, покрытый красным ковром, вестибюль.
Как только мы вошли в зал, Марта тотчас же отпустила мою руку. Она увидела в другом конце зала Паулину Каель и ринулась к ней, как выпущенная из лука стрела. А я сразу же заметил Мейора Линдея и Энди Ворхола, которые как привидения стояли возле драпировок. Как и у многих людей моего сорта, аппетит на знаменитостей у меня никогда не пропадает, хотя мое пристрастие к ним сводится только к тому, что я люблю на них смотреть. Но стоит с ними заговорить, как все фантазии обычно исчезают.
Перед моим взором разворачивался парад знаменитостей, а потому я проворно скользнул в уголок. Даже те немногие, кто мог меня знать, и не подумали бы, что это я и есть, если бы увидели меня так далеко от моего логова. И если бы я подсуетился и предстал перед их очами, это бы вызвало легкий шок, как выбоина на шоссе, и ничего более.
У перил стоял Джилли Легендре. Он был похож на дирижабль «Славный год», который покрасили в черный цвет и спустили на землю. На ступеньках, ведущих на балкон, расположился Бо Бриммер. Бо был гением по части нахождения ступенек. Поскольку для того, чтобы выглядеть как все люди с нормальным ростом, Бо требовалось взбираться на ступеньки, то согнать его с них бывало невозможно. На Бо был галстук-бант. Они с Джилли слушали какого-то невысокого малого. Это не мог быть никто другой, кроме как Жан Жоре-Малле, прославленный французский документалист. Жоре-Малле только что вернулся из тропических лесов и привез еще один из своих знаменитых документальных фильмов. На лицах Бо и Джилли было отсутствующее выражение, которое бывает у людей, вынужденных выслушивать монолог только потому, что человек, произносящий его, слишком знаменит, чтобы его можно было игнорировать. Замшевый смокинг на Жоре-Малле был просто сверхголливудским.
– А я ничего не знаю про Сейшельские острова, – изрек Бо несколько мрачно, но это никак не отразилось на непрекращающемся потоке французских слов.
– Я не знаю, – как эхо повторил Джилли по-французски, и пальцем провел взад-вперед по своим усам, будто желая их стереть.
Я бы мог с уверенностью сказать, что в этот момент им обоим безумно хотелось, чтобы мосье Жоре-Малле был проглочен анакондой. Во время разговора их прижала к перилам внезапно хлынувшая в зал толпа итальянцев, прибывших в таком количестве, что их вполне хватило бы на какой-нибудь фильм Феллини. В центре этой толпы выделялась сияющая Антонелла Пиза. Из-за толкотни у нее вылезла из лифчика одна грудь. Антонелла была звездой, заявленной итальянцами на этот фестиваль. Она, вне сомнения, являла собою нечто особенное. Бо, столь безразличный к красоте любых женщин, за исключением Жаклин Биссет, и тот не смог остаться равнодушным. Он смело спрыгнул в поток итальянцев, который протащил его и доставил прямо к Антонелле. Бо смог ее поцеловать. Жоре-Малле всем своим видом давал понять, что, по его мнению, Антонелла похожа на свинью. Не произнося ни слова, он отошел от Джилли и засеменил вниз по ступеням. Жоре устремился, как и все, по направлению к симпатичному Леону О'Рейли. Леон в этот момент крутил в руках свой брелок с выгравированными на нем греческими буквами фи, бета, каппа, и беседовал с какой-то высокой женщиной. Издали мне показалось, что это миссис Киссинджер. А попозже вечером я выяснил, что это была Александра Шлезингер, жена старого профессора, у которого когда-то учился Леон.

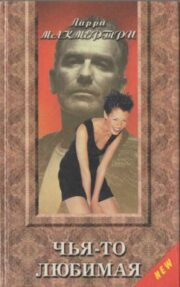
"Чья-то любимая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Чья-то любимая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Чья-то любимая" друзьям в соцсетях.