Она пропустила пожелание государыни мимо ушей и не только не отступилась от брата, но вела с ним переписку и даже ездила навестить его в ссылку.
Екатерина не была мстительной. Ценя прекрасную образованность Андрея Разумовского, она открыла перед ним дипломатическое поприще, все-таки не пожелав вернуть его в Петербург.
После ее смерти на престол взошел Павел I — бывший приятель сестры и брата Разумовских.
К тому времени он был давно женат, имел уже взрослых детей, но обида юности у нового императора с его прекрасной памятью все же дала о себе знать. Брата Натальи Кирилловны он из Европы отозвал и заставил жить в отцовском малороссийском имении Батурине.
Время шло. Мало-помалу Маша превратилась в прелестную собой девицу, и на балах от кавалеров у нее отбоя не было. Наталья же Кирилловна зорко наблюдала, с кем танцует ее приемная дочь: жених у Машеньки, само собой, должен быть первостатейный. Отыскать такого, даже при широких знакомствах Загряжской, представлялось делом нелегким: в каждом претенденте ей виделся какой-нибудь изъян. Да и с воцарением Павла развлечений, где можно было встретить достойную пару, резко поубавилось: опасаясь непредсказуемого нрава императора, люди предпочитали не выезжать из дому.
Столица уже привыкла жить в страхе. Боялись не только императора, но и друг друга. Шпионство и доносительство процветало. Ни полицейский, стоявший возле своей будки, ни высшего ранга придворный, ни дама, ненароком одетая в туалет, порицаемый самодержцем, — никто не мог быть уверен, что проснется в своей собственной постели. Отсюда разговоры шепотом, с оглядкой, осторожные жесты, старание слиться с толпой, сделаться незаметным.
…По милости хорошенькой дочери Анны только семейство Лопухиных чувствовало себя в абсолютной безопасности. Покорив сердце сумасбродного монарха, девушка буквально озолотила свою родню. Все семейство, обретавшееся в Москве, тотчас же переехало в подаренный Павлом петербургский дворец. На титулы, регалии, должности и деньги новоселам государь не скупился.
Чтобы в обществе не шушукались по поводу его отношений с девицей Лопухиной, Павел решил срочно сыскать Анне жениха и под прикрытием ее замужества продолжать свой роман.
Выбор императора пал на тридцатидвухлетнего Виктора Павловича Кочубея, наследника одного из богатейших в империи семейства, облагодетельствованного еще Петром за верность ему. Отменно образованный и даровитый молодой Кочубей делал хорошую дипломатическую карьеру и жил в основном при русских миссиях за границей. В двадцать четыре года он уже был назначен чрезвычайным посланником в Константинополь.
Все это как нельзя более отвечало замыслам императора: муж уезжает в дальние края, а супруга, то бишь любезная Анна, остается в Петербурге при исполнении своих обязанностей.
Кочубея срочно вызвали в Петербург. Павел великодушно решил подсластить заготовленный для посланника сюрприз. Не ведавший своей судьбы дипломат неожиданно получил ряд отличий, в частности он был произведен в действительные тайные советники, а затем, весной 1799 года, возведен в графское достоинство Российской империи. Со смутным чувством беспокойства по поводу всех этих благодеяний ехал Кочубей в Петербург…
Чтобы обезопасить себя, при дворе вовсю угодничали перед Лопухиными. Мать семейства, получив придворное звание статс-дамы, принимала хвалу себе за чистую монету и держалась весьма заносчиво. Между тем эта выскочка, бесстыдно прихватившая с собой из Москвы молодого любовника, вызывала и тайную насмешку, и презрение. Одна лишь Наталья Кирилловна Загряжская позволяла себе не только не льстить новоиспеченной статс-даме, но даже не здороваться с ней.
В конце концов, задетая за живое, старшая Лопухина пожаловалась императору. Немедленно вышел специальный указ, предписывающий всем без исключения кланяться ей.
А тут случился бал. И при полном съезде гостей Наталья Кирилловна, увидев Лопухину, присела перед ней в реверансе и нарочито громко на весь зал произнесла: «Здороваюсь с вами по именному его величества приказанию, мною сегодня полученному».
Гости оторопели. Через мгновение, не без веселой искры в глазах, они переглядывались друг с другом. Кое-кто из дам, прикрывшись веером, трясся от смеха. Лицо Лопухиной пошло красными пятнами.
В тот же вечер Наталья Кирилловна получила приказ покинуть Петербург. Впрочем, вслед за тем пришла весть, что император милостиво отменяет свое распоряжение.
Однако несколькими днями позднее у подъезда дома, где жили Загряжские, стояла доверху груженная карета. Экипажи, проезжавшие мимо, то и дело останавливались, а знакомые Загряжских, зная о прощении императора, выглядывали из окон и удивленно спрашивали у наблюдавшего за погрузкой дворецкого:
— Как, что такое? Разве Наталья Кирилловна покидает Петербург?
— Так оно и есть, ваше сиятельство, — важно отвечал дворецкий, поклонившись. — Покидает по ее собственному соизволению…
Предчувствие не обмануло Кочубея. В Петербурге ему было предложено жениться на девице Лопухиной. Ответ Кочубея последовал незамедлительно: «Никогда».
Тотчас он оказался в опале: от всех должностей новоиспеченного графа отставили и предписали покинуть столицу. Кочубей уехал в свое малороссийское имение Диканька.
Этот чудный уголок Украины известен прежде всего благодаря Гоголю, поселившему здесь своих героев. Но Диканька это не только живописное село с огороженными тыном мазанками, но и великолепная усадьба Кочубеев, которую с полным правом можно отнести к жемчужинам архитектурного и садово-паркового зодчества.
Белый, высокий, с колоннами и богатой лепниной дворец стоял на высоком берегу реки. Отсюда открывался прекрасный вид на окрестности. Перед фасадом же здания, на огромном газоне, обычно высаживали низкорослую цветочную рассаду специально подобранных оттенков. Этот живой ковер не увядал все теплое время года и представлял собой цветущую копию фамильного герба Кочубеев.
Персонажи гоголевской повести очень колоритны. Однако их яркая внешность вовсе не плод воображения писателя. Историк Южной России А.И.Маркевич в своем труде, вышедшем в конце XIX века, писал о кочубеевских владениях:
«Я восхищался красотою местности, но не мог не обратить внимание на красоту диканьских крестьян, как мужчин, так и женщин; даже старики и старухи отличались стройностью фигур и, пожалуй, своеобразной красотою.
Когда я сообщил о своем наблюдении управляющему, тот объяснил мне, что, по преданию, покойный князь, любя Диканьку, непременно желал видеть в ней красивое население, поэтому всех некрасивых парней и девушек выдавал замуж в другие свои многочисленные имения, хорошо обставляя их материальное положение, и, наоборот, везде выбирал красивых парней и девушек и переселял в Диканьку».
…Возможно, читатель уже догадывается, что здесь, в Малороссии, пересеклись пути Загряжской, Машеньки и Кочубея. Вот уж, действительно, все свершилось по пословице «Нет худа без добра». И обе заинтересованные стороны должны были воздать хвалу вспыльчивому нраву императора, благодаря которому встретились Маша и строптивый граф.
В 1801 году Мария Васильчикова, ставшая графиней Кочубей, родила мужу первенца. Это была девочка, названная, разумеется, в честь бабушки Натальей.
Граф Виктор Павлович очень уважал свою названую тещу: Загряжская сделалась членом молодой семьи. Как и было обещано, все свое огромное состояние она передала Марии Васильевне, оговорив себе определенное содержание, которое позволяло бы ей вести привычный образ жизни.
После Диканьки Наталья Кирилловна вместе с Кочубеями отправилась к брату в Дрезден. Здесь Андрею Кирилловичу, как водится, пришлось выслушать немало упреков сестрицы в неуемном расточительстве.
Он и вправду, чтобы сократить путь в свою резиденцию, выстроил в Дрездене великолепный мост, привел в порядок мостовые. Забегая вперед, скажем, что и в Вене, где он одно время служил, им был построен роскошный дворец, до сих пор носящий его имя. «Это был настоящий „Храм искусств“, где царили Канова и другие первоклассные художники; его библиотека и оранжереи поражали всякого своим богатством».
Разумовский дружил с Гайдном и Бетховеном. Сам великолепно играя на скрипке, он очень ценил их композиторский талант и помогал деньгами.
Об «эрцгерцоге Андреасе», как называли жители Вены Разумовского, ходили легенды. Говорили, что его «знаменитая гардероба» включала в себя несколько сот одних жилетов. В другой его коллекции оказалось немало представительниц прекрасного пола. Здесь были и заштатные «комедьянтки», и дамы высокого положения, вплоть до королевы неаполитанской, сестры Наполеона Каролины, и королевы Шведской. Андрей Кириллович успел даже дважды жениться, но детей так и не нажил.
…Возможно, Кочубеям и «дорогой сестрице» долго пришлось бы пользоваться гостеприимством Андрея Кирилловича. Но из России прилетела ошеломляющая весть: император Павел убит, трон наследовал его сын Александр.
А следом муж Машеньки получил и личное письмо нового императора. Тот звал его в Россию, писал, что нуждается в верных, инициативных людях.
Собрав своих домашних, Кочубей сказал: «Я еду».
Андрей Кириллович убеждал сестру остаться, пожить у него в европейском комфорте. Но Загряжская отказалась наотрез и вместе с Кочубеями вернулась в Россию на берега Невы.
Надо было решать, где ей жить и как быть с мужем. И вот после почти тридцатилетнего замужества Наталья Кирилловна предложила Загряжскому разъехаться.
Она приискала ему квартиру неподалеку от особняка, принадлежавшего Кочубеям. В этом здании Наталье Кирилловне были отведены отдельные апартаменты в шесть комнат, где она могла, никого не стесняя и сама не будучи стесненной, жить так, как ее душе угодно.
К обоюдному удовольствию все разместились очень удобно. Что касается Загряжских, то раздельное житье «не мешало супругам сохранить дружественные отношения и видаться каждый день».
…Кочубей резко пошел в гору. Он был назначен сенатором «с приказанием находиться при государе и присутствовать в Коллегии иностранных дел».
Марии Васильевне повезло: ей довелось прожить жизнь с человеком просвещенным, гуманным, обладающим умом ясным и наблюдательным. Кочубей, например, считал крепостное право «гигантским злом», но, будучи государственным деятелем и патриотом, остерегался слишком резких реформ, как питательной почвы для потрясений, ослабляющих страну.
Кочубей с его острым и в то же время «осторожным» умом был ценим до конца своих дней, всегда пребывал на самых высоких государственных должностях, а за три года до смерти, в 1834 году, был возведен в высшее в России княжеское достоинство.
Кочубею, по отзывам современника, имевшему «верный взгляд на вещи и дарование соглашать разномыслие», вероятно, удавалось придерживаться такой же тактики и в семейных делах. Его брак с Марией Васильевной оказался вполне благополучным, а Загряжская умудрилась стать бабушкой не только молодой графине Наталье, но и еще четверым сыновьям супруга.
О самой Марии Васильевне известно немного. И это лучший довод в пользу того, что она оставалась довольной тем, как сложилась ее судьба. Недаром одна английская писательница сказала:
«Самые счастливые женщины, как и самые счастливые нации, не имеют истории».
Живя с Кочубеями, Загряжская ни на йоту не изменила своим привычкам и привязанностям. «Годы ее не брали. Она по-прежнему любила общество, игру в карты, не чужда была благотворительности и пользовалась громадным значением в обществе». Друзья и почитатели молодости — Потемкин, «исполнявший малейшие ее причуды, Шувалов, воспевавший ее в стихах, граф А.С.Строганов, у которого она любовалась его картинами», — постепенно сходили со сцены жизни, а «бойкий и острый ум» Натальи Кирилловны продолжал притягивать к ней людей уже следующих поколений.
Визит к старой графине порой был окрашен такими впечатлениями, которые не стирались всю жизнь.
Граф Владимир Соллогуб описывал, как его еще мальчиком привели к Загряжской утром, когда она, по традициям восемнадцатого столетия, «принимала визиты во время одевания»: «Для нас, детей, она не церемонилась вовсе. Ничего фантастичнее я не видывал. Она была маленького роста, кривобокая… Глаза у нее были большие, серо-голубые, с необыкновенным выражением проницательности и остроумия; нос прямой, толстый и большой, с огромною бородавкою у щеки. На нее надевали сперва рыжие букли, сверх буклей чепчик с оборкой; потом сверх чепчика навязывали пестрый платок с торчащими на темени концами, как носят креолки.
Потом ее румянили и напяливали на ее уродливое туловище капот, с бока приколотый, шею обвязывали широким галстуком. Тогда она выходила в гостиную, ковыляя и опираясь на костыль. Впереди бежал ее любимый казачок, Каркачек, а сзади шла, угрюмо насупившись, ее неизменная спутница, приживалка Авдотья Петровна, постоянно вязавшая чулок и изредка огрызавшаяся. Старушка чудила много и рассказывала про себя всякие диковинки».

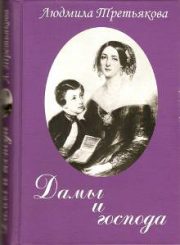
"Дамы и господа" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дамы и господа". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дамы и господа" друзьям в соцсетях.