— Ириш, у меня к тебе дело государственной важности, — значительно произнёс Лев в телефонную трубку. — Понимаешь, получается так, что в Канаду я приехал бедным евреем, а уезжать собрался почти что Ротшильдом. Всё, что я тут насобирал непосильным трудом меньше чем за две недели, не лезет ни в одни ворота, и я, честно признаться, от всего этого безобразия начал терять терпение. Ты мне не поможешь вернуться к моему прежнему статусу, хотя бы внешне?
— Без проблем, — смеясь, ответила она. — Ты необыкновенный человек, Вороновский! Первый раз в жизни встречаю кого-то, кто, став Ротшильдом, мечтал бы от этого избавиться. Лёвушкин, не изобретай велосипед повторно, просто закажи такси до моего дома, а здесь мы разберёмся с твоей бедой.
— Я тебе говорил, что ты гениальна? — сдвинув серьёзно брови, будто Ира могла разглядеть выражение его лица по телефону, проговорил он.
— Только дважды, господин профессор.
— Бог троицу любит, — внушительно проговорил он. — Придётся сказать тебе об этом ещё раз, при личной встрече.
— Я жду, — согласилась она.
— Ир, я не понял, ты ждёшь личной встречи, подтверждения своей гениальности или объекта для её приложения?
— Всё в комплексе, Лёвушка, — послышался лаконичный ответ, и в трубке раздались короткие гудки.
— Краткость — сестра таланта, — усмехнулся Лев и начал набирать номер заказа такси.
Так вещи Льва ещё со вчерашнего вечера, опередив своего хозяина почти на сутки, со всеми удобствами разместились в Ириной квартире. Через двадцать минут, после водворения в милую обитель, успев только побриться и принять душ, Лев с удивлением обнаружил, что крепкая картонная коробка весьма средних габаритов вместила всё его богатство. Как это Ирине удалось, осталось для него загадкой за семью печатями.
Конечно, в гостиницу можно было бы уже не возвращаться, наплевав на все условности и церемонии, но какое-то внутреннее чувство подсказывало ему, что этого делать не стоит. Дело не в том, что он чего-то боялся, если бы всё было так просто, то, наверное, от прогулок по вечерней и ночной Оттаве он не смог бы получать такое громадное удовольствие, вечно зажимаясь и с опаской поглядывая по сторонам.
Странным и непостижимым для него самого было то, что, анализируя своё поведение за последнюю неделю, он вдруг ясно осознал: ему абсолютно всё равно, что скажут о нём другие люди. Такое происходило впервые, поэтому ощущение полной свободы и независимости от чужого мнения было новым, ярким, непривычным. Впервые за много лет он не боялся ничего, прислушиваясь только к самому себе и к тому, что творилось в душе. Ощущение силы своего внутреннего голоса, ведущего его по жизни, было приятным и окрыляющим. Впервые он не старался анализировать то, что с ним происходило, доверившись течению самого времени.
Не став выворачивать себя мехом вовнутрь, просто решив, что так будет лучше, после окончания заключительной лекции в университете, Лев вернулся в гостиничный номер за сумкой. Последнюю ночь в Оттаве он проведёт в Иринином доме, а прямо от неё отправится в аэропорт. Тринадцать часов полёта, шесть часов разницы во времени, и сказка закончится.
Лев подошёл к окну и задумался. Жалеет ли он о том, что произошло? Конечно, нет, такого сильного чувства, рвущего и сладкого одновременно, он не испытывал никогда в жизни. Любовь к Маришке была совсем иной — тихой, светлой, надёжной. Она состояла из многих маленьких составляющих: уважение, уверенность в близком тебе человеке, наконец, просто привычка. Наверное, у каждого в жизни наступает время, когда хочется тепла и спокойствия, тогда человек начинает искать для себя тихую бухту, в которой он смог бы провести старость. А что, если Маришка — это тихая бухта его старости, а вовсе не любовь?
Первый раз за последние две недели Лев задумался о том, что с ним происходит. Пятьдесят семь — это чертовски много, как и куда и, главное, когда, улетели его деньки, он не заметил и сам. Вращаясь в водовороте событий, он незаметно для самого себя разменял жизнь на годы и дни, а теперь никак не мог вспомнить, для чего это было сделано.
За окном отеля по-прежнему светило скупое канадское солнышко, а Лев, стоя у окна, размышлял о своей жизни, раскладывая её на крохотные части и пытаясь найти ускользающую истину. А может, ну его к чёрту, может, бросить всё, перекроить всё заново? Самое плохое на земле — это жалость, от неё происходит бед ничуть не меньше, чем от жестокости. Жестокость ранит сразу, наотмашь, не раздумывая и не промахиваясь, а жалость губит постепенно, не торопясь, незаметно, губит до тех пор, пока не становится поздно что-либо исправлять.
Лев взял губами сигарету и полез в карман за зажигалкой. Куда она могла подеваться? Последний раз он курил у Иры на кухне, может быть, позабыл её там? Похлопав по всем карманам пиджака и убедившись, что её нет, он на всякий случай залез во внутренний, чем чёрт не шутит, может, положил её туда чисто автоматически?
Во внутреннем отделении пиджака зажигалки тоже не нашлось, но его рука нащупала какой-то лист бумаги, сложенный в несколько раз. Что бы это такое могло быть? Удивлённо сдвинув брови, он перебросил сигарету в уголок губ и достал свёрнутый вчетверо тетрадный листок в ученическую клетку.
Как он здесь оказался — дело неясное, ведь, пробыв в Канаде неполные две недели, Лев не менял пиджака по причине того, что другого просто не было. Надевая каждое утро чистую накрахмаленную сорочку, он снимал со спинки стула свой парадный пиджак и, накинув его, непременно шёл к большому зеркалу у дверей. Тщательно осмотрев свой внешний вид, поправив узел галстука, он брал с собой плоскую кожаную папку на молнии, где хранились документы и тетради с лекциями, и отправлялся на очередное занятие в университет. Исключением была только та безумная ночь, что он провёл у Иришки.
То, что Ира не станет лазить по карманам Льва, было ясным как белый день, и если он не помнит, как эта бумаженция оказалась у него, это может означать только то, что она валяется в кармане уже достаточно долгое время.
Развернув сложенный лист, Лев увидел несколько строк, написанных неровным детским почерком. Буквы были крупные, круглые, цепляющиеся одна за другую неуверенным прыгающим паровозиком. Вороновский, ещё не читая содержания, вспомнил, где он видел эти строки: это была работа-тестирование, проводившаяся в классе близнецов не так давно.
Самый счастливый день в своей жизни я не помню, потому что был ещё маленьким, но точно знаю, что счастливее дня у меня не будет никогда, это день, когда у меня появилась моя семья.
Лев перечитал эти строки несколько раз, а потом, сев на кровать, закрыл лицо руками. Боже мой, что же такое с ним происходит, если всего за одну неделю он смог вычеркнуть из души любовь самых дорогих людей! Что же он такое на самом деле?
Слёз не было, просто что-то сдавило горло, оставляя после себя горьковато-кисловатый привкус отчаянной обиды на самого себя. Стало нестерпимо противно и тошно, а ещё отчего-то стало безумно жаль самого себя. Перегнулась его жизнь, перепуталась. Лев сильнее зажмурил глаза, будто это хоть немного могло ему помочь. Наверное, так не должно было быть, но Лев, зная, что ничего уже не поправить, и внутренне презирая себя за слабость, с ужасом понимал, что отказаться от чувства к Беркутовой, выстраданному и такому сложному, он не в силах.
Который раз за последние несколько дней он возвращался памятью в ту страшную предновогоднюю ночь, когда падал хлопьями пушистый белый снег, а тёмные силуэты голых иззябшихся деревьев бросали горбатые тени на асфальт. Жёлтые фонари смеялись ему вслед, а слова Натаныча казались абсурдными и странными: «Жизнь длинная, не осуждай». Прошло всего полгода, а жизнь расставила Льву точно такой же капкан, из которого ему теперь не выбраться, сколько бы он ни старался.
Глупо было делать вид, что ничего не произошло. Тяжело вздохнув, он покосился на лежавший на тумбочке мобильник. Взяв его в руки, он зачем-то открыл заднюю крышку, проверяя, плотно ли стоят батареи. Задвинув панель до упора, он понял, что тянуть дольше не имеет никакого смысла. Набрав Маришкин номер, он слушал долгие гудки, с замиранием сердца надеясь на то, что никто не возьмёт трубку, но внезапно сигнал прервался на середине, и на дисплее экрана высветилась надпись, равносильная для Льва смертному приговору: соединение.
Маришка, слыша только мёртвую тишину в трубке, озабоченно сдвинула брови и недоумённо поджала уголки губ. Что бы это могло означать?
— Алло! — голос её дрогнул, а слова ей самой показались тихими, произнесёнными словно издалека.
— Маришка?
Услыхав родной тембр, она невольно вздрогнула, хотя ждала этой минуты уже несколько суток. Дыхание на какой-то неуловимый момент остановилось, а на лице появилось противное ощущение, будто кожу чем-то сильно стянуло и поверхность её стала упругой и жёсткой, словно раздвинутая до предела площадь акробатического батута.
— Это ты, Лев? — От волнения горло сжало спазмом, голос захрипел, прервался, и Маришка закашлялась. Кашляла она долго, стараясь справиться с накатившим не вовремя приступом, давясь и содрогаясь всем телом. По щекам от напряжения катились слёзы, а Лев, удивлённый переменой, произошедшей всего за несколько дней, всё держал трубку, не в состоянии поверить услышанному.
— Маришка, привет, мой хороший, что с тобой такое произошло, ты больна? — В его голосе она уловила давно знакомые интонации беспокойства и волнения. — Ты простыла? Алло! Почему ты молчишь?
— Мне уже лучше, Лёвушка, — поспешила она успокоить мужа. Дыхание её всё ещё оставалось сбивчивым, но приступ кашля миновал, и теперь она могла говорить спокойнее. — Понимаешь, я мыла окна, а на улице было прохладно. Наверное, я не почувствовала, как меня прохватило, — виновато произнесла она, представляя, как Лев переживает за неё и волнуется.
Вот глупая-то, напридумывала сама себе ужасов, а Лёвушкин жив-здоров. Наверное, заработался человек, ведь не на отдыхе же он, в командировке!
— Ты почему так долго не звонил? Случилось что?
— Ты не перескакивай на другую тему, Мышка-норушка, — осерчал он. — Я же тебя просил не подходить к этим растреклятым окнам, а ты не слушаешь мужа никогда, вот и получается полнейшее безобразие, — огорчённо проговорил он. — Врача-то хоть вызвала?
— Был врач.
— И что сказал?
— Воспаление лёгких, — неохотно призналась она.
— Ну, ты и натворила без меня дел! — потрясённо ахнул он. — Что же это такое! Не успел муж уехать всего на десять дней, а ты уже от рук отбиваешься?
— Лёвушка, прости, виновата, исправлюсь, — улыбнулась Маришка.
На душе у неё стало вдруг легко и чисто, словно после хорошего летнего ливня. Лёвушка позвонил, он помнит о них, любит их!
— Скорее бы твоя командировка заканчивалась, мы уже соскучились, — тихо проговорила она.
— Сегодня последний вечер, малыш. Завтра на самолёт, и совсем скоро я вас увижу. Знаешь, я накупил целую гору подарков, и они никак не хотели умещаться в коробке, — засмеялся он.
Вопреки ожиданию, никакой тяжести от разговора с женой он не испытывал, наоборот, был счастлив, что услышал её родной голосок. Какая жалость, что она так тяжело заболела! Ну ничего, он прилетит, и она обязательно скоро поправится.
— Маришка! Я тоже по вас соскучился. Знаешь, тут так красиво, но без тебя ни одно место на всём земном шаре всё равно родным и близким никогда не станет.
Слова давались ему легко и на удивление просто. Он, Лев Борисович Вороновский, по всей вероятности, за всю свою жизнь не обманувший ни единой живой души, говорил не задумываясь и не сомневаясь.
— Маришка, прости, у меня здесь проблемы со связью, поэтому и не звонил долгое время. Я приеду — всё расскажу. Ты не беспокойся, если вдруг не услышишь моего голоса, у меня всё в полном порядке. Поняла?
— Поняла! — радостно проговорила Маришка. Вот и разгадка вопроса: там, в этой далёкой Канаде, просто некачественная связь. Говорят, цивилизованные люди — эти канадцы, а если посмотреть с другого угла, так у нас в каких-нибудь пропащих Еловках и то телефон берёт, а у них — проблемы на пустом месте…
— Лёвушкин, мы ждём тебя.
— Целую, котёнок, передай мальчишкам, что я их заявки выполнил, хорошо?
— Андрейка спрашивает, что ты нашёл для него, — весело проговорила Маришка.
— Вот уж нет, пусть теперь терпит до моего приезда. Озадачил отца так, что я тут чуть голову себе набок не скрутил, пока его просьбу выполнял, теперь его очередь.
— А мне ты что привезёшь? Или тоже военная тайна?
— Нет, никакая это не тайна. Я же обещал, что привезу себя, а обещания, как известно, сдерживать надо. Ты что-нибудь имеешь против?

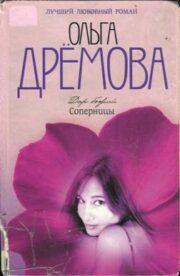
"Дар божий. Соперницы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дар божий. Соперницы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дар божий. Соперницы" друзьям в соцсетях.