И вот я со своими подругами шла в кафе-мороженое, и, пока они строили глазки симпатичному буфетчику Басу Дженкинсу, стоящему за стойкой, где продавалась содовая со всевозможными сиропами, я сидела, потупив глаза. Я никогда не проявляла такой активности, как они, потому что по природе была очень застенчивой, а моя мать, Марта Лидз Уильямс, внушала мне, что я не должна вести себя вызывающе, как иногда ведут себя другие девушки, в основном те, чьи корни не уходит в те времена, когда Южная Каролина была еще колонией. И я работала в саду с мамой, которая частенько получала призы за свои розы и камелии, и с жадностью слушала ее рассказы о том времени, когда она и ее сестра Беттина были молодыми, — до того момента, когда они выросли, и Беттина сбежала с богатым северянином, и мама порвала с ней. Я сидела в кресле-качалке на веранде и изредка приветствовала проходивших мимо знакомых, хотя мама не раз говорила мне, что настоящая леди, а уж тем более представительница семьи Лидзов не должна повышать голос, даже в самых неожиданных обстоятельствах. Именно этим я и занималась в тот день, когда мистер Уоткинс, наш почтальон, принес то письмо с Севера, решившее мою судьбу, письмо, которое увело меня из Чарльстона, из моей спокойной, безмятежной жизни в новый и необычный мир — мир Сары, Крисси и Мейв.
Сара
Сара взбежала вверх по лестнице. Она уже с утра измучилась ожиданием и все время занятий в школе «Три Дей» смотрела на часы в классе и на перемене.
…Дверь комнаты ее матери была закрыта, но Сара вошла не постучав. Был солнечный майский день, четыре часа пополудни, однако в спальне было темно. Жалюзи были опущены, тяжелые желтые бархатные шторы задернуты. Сара с трудом могла разглядеть женщину, лежащую на кровати.
— Мама?
— Сара. Ты уже вернулась из школы, дорогая?
Сара наклонилась и нежно поцеловала мать в щеку. Кожа была мягкой, но очень сухой.
— Как ты себя чувствуешь, мама?
— Хорошо. Немного устала, но, в общем, хорошо. Как прошел день?
— Нормально. Мама, можно я раздвину шторы? На улице так чудесно.
— Не нужно, Сара, милая. У меня от света болят глаза. Может быть, завтра.
— Ну хорошо. Но не забудь — завтра мы обязательно раздвинем шторы, а еще через день ты спустишься вниз. А потом мы поедем кататься верхом. Ведь весна, мама! На улице чудесный весенний день.
— Ну да, особенно если принять во внимание весь этот городской шум Нью-Йорка. — Беттина Голд тихо засмеялась. — Вот где по-настоящему прекрасно, Сара, так это в Чарльстоне. Ведь ты никогда не была в Чарльстоне весной, правда? Чарльстон это… — она замолчала на полуслове.
Сара вообще никогда не была в Чарльстоне, однако сказала:
— Не сомневаюсь. Я легко могу представить себе Чарльстон. Я стою у реки, и вокруг так красиво…
— Да, действительно у реки необыкновенно красиво, Сара. Я помню, как однажды в июне, когда я… — она замолчала, как будто вспомнила все слишком отчетливо и вдруг осознала, что находится в спальне в нью-йоркском доме. — Миссис Манеро сегодня ушла, Сара. Так что у нас опять нет экономки. Твой отец будет ужасно сердит! Он терпеть не может, когда в доме что-то не так. Он считает, будто это я виновата в том, что мы не можем удержать…
— Не волнуйся, мама. Мы больше не будем нанимать экономку. Я сама буду обо всем заботиться.
— Нет, Сара, это слишком тяжело. Ты в твоем возрасте должна развлекаться. Чтобы было что вспомнить, когда вырастешь. Вечеринки… Я не хочу, чтобы ты…
— Нам не нужна экономка, — настаивала на своем Сара. Она знала, насколько непрактична ее мать. — Я знаю, что надо делать. Я смогу давать распоряжения и повару, и другим. Я смогу составлять меню. Мама, я же училась этому. Поэтому я и не поехала в прошлом году в закрытую школу, а осталась дома. Я стану помогать тебе, и мы будем вместе. Ты помнишь, как мы договаривались?
— Да, помню, конечно.
Но в результате получилось совсем не так, как хотелось. Сара стремилась все время проводить с матерью, со своей бедной матерью, которая была так одинока, но Беттине Голд приходилось проводить по нескольку недель в разных лечебницах для богатых алкоголиков. Саре же хотелось, чтобы мама была дома, а не в больнице. Она также думала, что таким образом ей удастся заставить отца бывать дома почаще. Но из этого тоже ничего не получилось. И вот этой осенью она снова собиралась вернуться в школу. В школу-интернат, как настаивал отец.
— Послушай, мама, мы ведь пробудем здесь всего месяца два. А затем уедем на лето в Саутгемптон. Я пока без особого труда смогу вести дом и заниматься прислугой. А в Саутгемптоне будет еще лучше. Ты сама увидишь.
— Может быть, ты тогда сама скажешь об этом отцу, Сара? О том, что ты не хочешь, чтобы мы искали экономку. Если ему скажу я…
— Хорошо, я сама скажу.
Беттина Голд откинулась на подушки. Ее рука, нервно потиравшая шею, опустилась на простыню.
— Спасибо, Сара.
— Я хотела с тобой поговорить еще об одной вещи, мама. Я тут вот о чем думала. О Марлене.
— О Марлене? — рассеянно переспросила Беттина.
— Да, мама. Дочери твоей сестры Марты. Мы ведь ровесницы.
— Нет, Сара, мне кажется, что ты ошибаешься. По-моему, дочка Марты должна быть моложе тебя. Марта вышла замуж после меня.
— Нет, мама. Ты мне говорила, что Марлена родилась в 1928 году, как и я. Она лишь на несколько месяцев моложе меня. У меня день рождения в январе. А у нее — в марте. Во всяком случае, мама, мне бы хотелось познакомиться с ней. Ведь у меня никого нет, кроме тебя. И отца… Я и подумала, а что если нам пригласить ее в гости? Или еще лучше — может быть, нам предложить оплатить ее обучение у мисс Чэлмер? Ты говорила, что у тети Марты и дяди Говарда с деньгами туговато. Тогда мы с Марленой смогли быть жить в одной комнате. Мне бы так хотелось жить в одной комнате со своей двоюродной сестрой, мама. Иногда я чувствую себя такой одинокой. Нет ни сестры, ни брата. Даже настоящей подруги нет.
— Я знаю, дорогая. И я тоже уделяла тебе так мало времени. Бедная моя Сара! Я была не очень хорошей матерью. А я так хотела ею быть, я так хотела тебя, и ты была такой очаровательной малышкой — лучше не бывает. Ты и сейчас просто прелесть, но я не была тебе хорошей матерью… — на глазах Беттины показались слезы.
— Неправда, мама, это совсем не так! — Сара положила голову на подушку Беттины и, прижавшись к ней щекой, прошептала: — Ты была самой лучшей мамой. Я так люблю тебя!
— И я люблю тебя больше всех на свете, Сара. Я думаю, что это действительно прекрасная мысль — насчет дочери Марты, — как, ты говоришь, ее зовут?
— Марлена.
— Почему бы тебе не поговорить об этом с отцом, милая? Если об этом попросишь ты, он обязательно согласится.
— Обязательно поговорю, мама. Спасибо. — Она поцеловала мать в щеку. На этот раз она показалась Саре горячей. — У меня есть еще одна идея.
Беттина тихо рассмеялась:
— У тебя всегда полно идей, Сара.
— Мы могли бы предложить финансировать дебют Марлены в Нью-Йорке. Уже после окончания школы. Таким образом, мы сможем подольше быть вместе.
— Возможно, это мы тоже могли бы сделать, Сара. Однако особенно не надейся. Не знаю, как ко всему этому отнесется Марта. Она всегда очень ревниво соблюдала традиции: для Марты Лидз традиции Юга — это все. Мы с Мартой впервые вышли в свет в Чарльстоне, как и все девушки из рода Лидзов. А дебют в Чарльстоне — это уже что-то. Дебютантка из Чарльстона может отправляться куда угодно и… Ты знаешь, как говорят: «Дебютантка из Бостона, может быть, образец добродетели и порядочности, но дебютантка из Чарльстона наиболее утонченная и образованная». И к тому же намного красивее, — добавила она, тряхнув головой.
— Уверена, что ты права, мама, но я думаю, что дебют в Нью-Йорке будет просто интересней. Ну, во всяком случае, мы ведь можем это предложить?
— Хорошо, дорогая. Но особенно не увлекайся. Сначала тебе необходимо будет уговорить отца, а затем тетю Марту. — Она покачала головой и опустила веки. — Я просто ничего не знаю о Марте…
— Ой, мама, не забивай всем этим свою бедную голову. Я сама обо всем позабочусь. Может быть, спустишься сегодня к ужину? Ну хоть попробуй. Ну для меня.
— Только не сегодня, Сара, дорогая. Я еще недостаточно окрепла. Лучше еще немного подремлю. — Она виновато улыбнулась и закрыла глаза.
Сара на цыпочках вышла из комнаты. С отцом у нее проблем не будет. Он всегда старался угодить дочери. И немудрено. Он чувствовал, что виноват перед ней.
Морис Голд, ранее носивший имя Мойше Гольдберг, родился в деревне неподалеку от Ковно в Литве, которая тогда была частью России. Или, во всяком случае, была под властью России в течение многих лет. Когда Мойше было десять лет, брат его матери Сэм Уорнер — некогда Варновский — помог Саре и ее детям перебраться в Новый Свет. Сам он уехал в Америку на пятнадцать лет раньше, неплохо там устроился, женился. Позднее появился сын, дочь и большая фабрика по пошиву мужских сорочек в Нижнем Ист-Сайде.
Перед самым отъездом внезапно обнаружилось, что у Мойше себорея с перхотью. Под шапкой курчавых черных волос его голова была покрыта красными струпьями и желтым гноем. Соседи убедили Сару, что мальчика в таком состоянии никогда не пустят в Америку. Необходимо было принимать решительные меры. Было одно средство, жестокое, но надежное. Сара нарезала белую ткань на квадратики и поставила на печь горшок с дегтем. Затем на густые волосы Мойше вылили горячий деготь и к нему прилепили кусочки ткани. На следующий день, когда лоскутки крепко приварились к волосам, Сара, маленькая, но решительная женщина, стала сдирать их, выдирая из кровоточащей головы Мойше каждый волосок. Мойше вопил от боли, но Сара не останавливалась, сама заливаясь слезами. Она слышала о том, что происходит на Эллис-Айленде, — дети, не прошедшие медосмотр, отсылались обратно одни, в то время как вся остальная семья — мать, отец, братья и сестры — в силу обстоятельств и по финансовым причинам была вынуждена оставаться на новом месте, расставаясь с несчастными, возможно, навсегда.
— Мойше, ты что, хочешь, чтобы тебя отослали одного обратно в Ковно? Или ты хочешь стать американцем? Так что ты выбираешь? — бранилась Сара, снова и снова выдирая клочья измазанных дегтем черных волос, выбрасывая их в мусорное ведро и вытирая кровь.
Наконец мучительная процедура была закончена. Ободранную голову Мойше вымыли вонючим стиральным мылом и намазали какой-то мазью. С Божьей помощью, если повезет, кожа на голове вскоре засохнет и станет гладкой, и к тому времени, как они доберутся до Эллис-Айленда, отрастут и волосы.
Собрав свои пожитки, Сара с семьей отправилась в Германию — это было первым этапом долгого пути. Добравшись до границы, с одной стороны охраняемой русскими, а с другой — немцами, они вместе с другими еврейскими эмигрантами пошли по мосту, сопровождаемые улюлюканьем и с той, и с другой стороны. Отец Мойше, Давид, бородатый, в черной широкополой шляпе, не обращал на кричавших никакого внимания. Рядом с ним шел его Бог, — и неужели он будет обращать внимание на этих гоев, скалящихся и кривляющихся, как обезьяны? Они для него не существуют. Но Мойше было очень стыдно служить объектом злых насмешек. Он этого не забудет никогда.
Семнадцатого сентября семья погрузилась на пароход с кучей подушек и перин, латунными подсвечниками, а также наволочкой, в которой оставались припасы, захваченные еще из дома, — засохшая колбаса, черствый, как камень, хлеб и несколько проросших луковиц. Они должны были прибыть в Америку пятого октября, однако задержались в пути на десять дней.
Их поместили в четвертом классе — деревянные многоярусные нары до самого потолка. Там вместе с ними ехали другие русско-польские евреи, немецкие евреи, а также немецкие, польские и русские бедняки — неевреи. Им всем приходилось спать бок о бок и три раза в день вместе питаться за длинным деревянным столом, расположенным в глубине парохода.
Каждодневное меню пассажиров четвертого класса было неизменно — овсянка, чай, картошка в мундире, лук, огурцы, крепко посоленная селедка и для тех счастливчиков, кто мог это есть, — колбаса и свинина. В первые дни Мойше Гольдберг, как и многие другие, сильно страдал от морской болезни, и каждый раз, проходя мимо камбуза, испытывал очередной приступ. Однако вскоре ему стало лучше, а морской воздух разбудил аппетит. Небольшой запас Сары был уничтожен уже на второй день плавания, и семье приходилось поддерживать свои силы лишь корабельной овсянкой, картошкой и луком. Всевышний же не позволял им есть трефное — дымящуюся колбасу и ароматнейшую свинину. Давид Гольдберг внимательно следил, чтобы дети его не соблазнились и не согрешили.

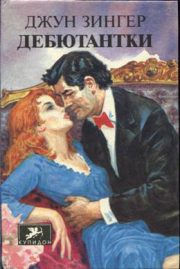
"Дебютантки" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дебютантки". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дебютантки" друзьям в соцсетях.