Морис стал перебирать находящиеся в сейфе документы, затем нашел сертификат на акции.
— А это что?
Гарри Вейнер горько рассмеялся:
— Это я получил от розничного торговца, который был мне должен восемь тысяч долларов и оставил меня раздетым до нитки. Хочешь их забрать? Договорились, и теперь я буду должен твоему дяде лишь пять тысяч.
— Скорее всего, они не стоят даже той бумаги, на которой напечатаны, — сказал Морис, — но я их возьму, чтобы вас выручить. И чтобы все было в полном порядке, подпишите документ о передаче этого сертификата.
Вейнеру не хотелось подписывать, однако, когда Морис предложил дать ему взамен квитанцию со словами: «Получено полностью» за тот товар, что он был должен, он уступил. Морис немедленно проверил те компании, акции которых он приобрел. Нельзя было сказать, что они процветали, однако они существовали.
У Мориса была неплохо развита интуиция. Он отдал дяде пять тысяч долларов из своих денег.
— Вейнер разорился, — сообщил он. — Он собирается заявить о своем банкротстве, но мне удалось выжать из него хотя бы по пять центов с доллара до того, как его имущество будет поделено между кредиторами.
Сэм Уорнер простонал:
— Ну что ж, пять центов — это лучше, чем ничего. Но, может быть, в следующий раз не стоит продавать этим болванам больше товара, чем они могут реализовать.
Но следующего раза не было. Морис отправился в армию, заручившись обещанием дяди, что по возвращении получит оставшуюся дядину долю в деле. Сэм уже отдал одну треть своему сыну Соломону, женившемуся на сестре Мориса — Ривке, вторую треть — брату Мориса Джорджу, который занимался фабрикой.
В армии Морис выдавал себя за немца. Его внешность была вполне европейской, он окончил колледж, говорил лучше многих и, будучи офицером, пользовался всеми преимуществами привилегированного сословия, то есть тем, что никогда бы не имел как еврей из Восточной Европы.
Получив назначение в интендантскую службу, Морис ни разу не ступал на вражескую землю и все время занимался тем, что играл в гольф, пьянствовал и развлекался с девочками вместе с другими офицерами, но лишь теми, чье положение в гражданской жизни было достаточно высоким. К тому времени, как он демобилизовался в 1918 году, он решил, что лучше стать приверженцем креста, чем звезды Давида.
По возвращении он застал расцвет послевоенного Нью-Йорка. Его собственное имущество за годы войны поднялось в цене, и теперь он владел несколькими миллионами. Сэм Уорнер выполнил свое обещание: уйдя на покой, он отдал Морису третью часть своего дела, не зная о том, что Морис не собирался возвращаться на швейную фабрику. Он предложил свою долю оставшимся владельцам, Джорджу и Соломону, по непомерной цене. У тех не было другого выбора, кроме как выкупить долю Мориса, чтобы фабрика осталась в семье.
Как и Нью-Йорк, вся послевоенная Америка строилась, росла, развивалась. И Морис не удивился, узнав, что компании, чьи акции он получил от оптовика Вейнера, не только выжили в этот период, но и стали процветающими. Он скупил множество акций этих компаний и постепенно стал основным их владельцем. К своих тридцати годам Морис Голд имел огромное состояние. Не такое огромное, как состояние Гуггенхеймов, еврейско-немецкой семьи, которой он восхищался, оно было ненамного меньше, чем состояние Рокфеллера, однако уж не меньше состояний многих англосаксонских семей, приобретенных в девятнадцатом веке. А Морис кое-что знал об этом: он хорошо изучил историю известных американских династий.
Теперь он был готов стать членом общества, которое никогда не приняло бы его как еврея. В армии он смог выдать себя за нееврея, просто не упоминая об этом. Но в тех кругах, куда он стремился попасть, будут знать о его национальности. Он подумывал о том, чтобы стать членом секты евреев-реформаторов, как многие немецкие евреи. Он уважал немецких евреев, уважали их и в финансовых кругах Нью-Йорка. Нельзя было не замечать огромных состояний всех этих Лейманов, Селигманов, Лейбов и его кумиров — Гуггенхеймов. Все они были известны также своей филантропической деятельностью. Однако немецкие евреи нашли свою нишу в этой жизни и не имели никакого желания вторгаться в верхушку нью-йоркского высшего общества. Они держались особняком, жили благополучной, но своей жизнью. Они избегали всякой гласности, браки заключали только между собой и общались лишь в своем тесном кругу. Морис Голд хотел совершенно другого. Он хотел стать англосаксонским протестантом, чтобы общаться с такими же англосаксонскими протестантами, владеющими огромными состояниями, — Асторами, Вандербильтами, Марлоу или даже Белмонтами, которые также некогда были евреями.
Морис Голд стал членом англиканской церкви. Все, что ему теперь требовалось — это подходящая супруга, большой дом в городе и еще один дом в курортном местечке. Было бы неплохо, если бы и у жены были деньги, однако это для него не было главным. Самым важным была красивая внешность и безукоризненная родословная.
Довольно быстро до Давида Гольдберга дошло известие о том, что его сын Мойше принял христианство и стал-таки гоем. Давид Гольдберг возблагодарил Всевышнего за то, что Сара не дожила до трагического дня «смерти» своего сына, и отслужил по Морису поминальную службу, как будто он и вправду умер. Морис же, узнав о том, что отец объявил о нем траур, ничуть не расстроился. Именно этого он и хотел. В его новой жизни не было места прошлому.
Во время одной из своих деловых поездок в Чарльстон Морис Голд познакомился с Беттиной Лидз. Корни ее родословного древа уходили во времена первых поселенцев Южной Каролины. Ее предки были участниками революции, а потом и Гражданской войны, хотя и проиграли эту войну. У него перехватывало горло, когда он смотрел на нее — более совершенной красоты он не знал. С того самого времени, как он почувствовал себя мужчиной, он мечтал о таких темно-синих глазах и светло-золотистых волосах. Ее манера говорить очаровала его, ее южный выговор вызывал в нем такую страсть, которую у других мужчин может вызвать обнаженная женская грудь или стройная ножка. Он увез ее с собой в Нью-Йорк, и они обвенчались в англиканской церкви. Именно для Беттины Морис купил этот роскошный особняк на Пятой авеню и наполнил его самыми изысканными и дорогими вещами.
Вначале все шло хорошо, пока ему не стало ясно, что Беттина Лидз Голд никогда не сможет вести активную общественную жизнь, стать звездой в высшем свете, как того требовал от нее Морис. В высшем свете Нью-Йорка была жестокая конкуренция, и нужно было быть сильной и бесстрашной, самостоятельной и энергичной, чтобы занять там достойное место. Нужно было быть искушенной, циничной, уметь затмить соперниц и царствовать, как королева.
Мориса раздражала беспомощность Беттины. Чем больше он раздражался, тем больше злился на нее, чем больше злился, тем беспомощнее она становилась. Она замкнулась в себе, плакала, много пила. Она покупала не те платья, нанимала не ту прислугу, заводила не тех друзей. Морис все больше разочаровывался в ней, ему надоела ее бледная красота, ее мягкость он воспринимал как слабость, ее изысканные манеры — как прикрытие собственной беспомощности. Полный разочарования, он вдруг понял, что она не устраивает его и как женщина — ему хотелось более страстного, более темпераментного тела. Единственное, что сделала Беттина, доставив ему радость, — это было рождение дочери Сары, названной в честь его матери, но очень похожей внешне на Беттину. Хотя Морис и был полон презрения к хрупкой красоте Беттины, он обожал эту хрупкость в Саре, которой удалось соединить в себе прекрасные и изящные черты матери с энергией и живостью отца, которые наполняли эти черты жизнью. Морис обожал дочь, так же как в свое время благоговел перед другой Сарой. Если Сара унаследовала внешность матери, то характер у нее был бабушкин. Одно уравновешивало другое.
Беттина Лидз была единственной ошибкой Мориса Голда в его безупречной карьере. Он понял, что переоценил значение имени Лидз. Фамилия обедневшей семьи с Юга ничего не значила для Нью-Йорка, для которого значение имел только жизненный успех. Он также ошибся, переоценив ее обаяние южанки. Это обаяние также не действовало на жителей Нью-Йорка, для них главным была жизненная сила и энергия. Каким же он был дураком! Было множество семей, с которыми он бы мог породниться, — с именами, которые действительно что-то значили, были женщины с деньгами, характером и темпераментом.
Он даже подумывал о разводе. Однако Беттина не станет с ним разводиться. Ему придется взять инициативу на себя. А это уже может вызвать скандал, который ему совершенно не нужен. Те, кто был рожден в богатстве и почете, не боялись за свою репутацию — они презирали любое мнение, кроме своего. Однако Морис Голд еще не достиг такой высоты положения. И кроме того, была Сара. Как быть с Сарой? Ему было нужно отделаться от Беттины, но оставить себе Сару. Ему нужно было каким-то образом заставить Беттину жить своей жизнью.
— Что это она себе вообразила? — спросила моя мать, Марта Лидз Уильямс, у моего отца, швыряя ему в лицо письмо своей сестры Беттины, как будто он имел какое-то отношение к его возмутительному содержанию. — Она считает, что пятнадцать лет может не подавать о себе вестей — даже открытки на Рождество не прислала ни разу, — а затем этакое снисходительное предложение, чтобы возместить свое многолетнее молчание: «дать надлежащее образование Марлене, представить ее в обществе»? — Она закончила интонацией, которую считала чисто английской.
Как глупо, подумала я. Почему это у моей тети должен появиться английский акцент, если она живет в Нью-Йорке? В конце концов тетя Беттина выросла из того же корня, что и мы. Если, конечно, она не утратила все признаки чарльстонской речи, живя столько лет среди янки.
— Это все чепуха, — сказал папа. — Какое это имеет значение, если она сейчас пытается загладить вину? И мне кажется, что она делает очень благородный и добрый жест. Это замечательно, если Марлена получит образование в частной школе. Тогда она сможет поступить в какой-нибудь хороший колледж на Севере — Вассар, Смит, может быть, Редклифф.
— Да? И кто же будет это оплачивать, Говард Уильямс? — насмешливо спросила мама.
Папа покраснел.
— Сначала надо решить первый вопрос, а там видно будет.
— Лично я — против. Я не желаю пользоваться благодеяниями Беттины. И уж конечно, ее еврея.
— Ну, какая разница, кто он — еврей или индус. Боже ты мой! С ним спит твоя сестра, а не ты.
— Я думаю, что он просто делает то, что хочет Беттина. А Беттина изображает из себя великосветскую даму, осыпающую бедных родственников благодеяниями. И что для него значат деньги? Для него дать эту сумму — все равно что в горшок пописать.
Только здесь я поняла, как расстроена мама, — иначе она ни за что бы не употребила таких выражений. Моя мать терпеть не могла вульгарности.
— Сначала ты ставишь под сомнение их добрые намерения. Теперь ты говоришь, что это им ничего не стоит. Но все это не по делу, а дело в том…
— Я не хочу, чтобы они делали нам одолжение. Видите ли, они собираются организовать выход в свет! Не забывай, что я из семьи Лидзов. Мне не нужно, чтобы какой-то Голд определял для моей дочери место в обществе.
Я увидела, как на лице отца промелькнуло странное выражение. Возможно, он хотел сказать маме, что даже в Чарльстоне «Лидз» уже не звучит. Однако он спокойно сказал:
— Твоя сестра тоже Лидз.
— Ну знаешь, Говард, мне ты об этом можешь не напоминать. Лучше напомни об этом самой Беттине. Почему, как ты думаешь, этот еврей женился на ней? Потому что ему нужна была девушка из семьи Лидзов, чтобы все забыли, кто он сам.
Я стояла в комнате, совершенно забытая моими бранящимися родителями. Как я поняла, тетя Беттина и дядя Морис предложили оплатить мое обучение в школе мисс Чэлмер, а затем после ее окончания ввести меня в нью-йоркское общество. И было видно, что папа благодарен им за это — он, по-видимому, хотел принять это предложение. Но мама была возмущена, рассержена. Похоже, что она так и не простила Беттину за то, что та вышла замуж за кучу денег, чтобы выбраться из достойной и благородной бедности, в которой они обе жили, уж не говоря о том, что она вышла замуж за человека намного ниже ее по положению — за «жида» и тем самым опозорила весь род Лидзов. И чего уж она совсем не могла ей простить — это того, что, оставляя в прошлом эту благородную и достойную бедность, ее сестра даже не обернулась назад через свое нежное, красивое аристократическое плечико.
Я все это слышала не раз, еще когда была совсем маленькой девочкой. Но лишь совсем недавно — примерно год назад — я узнала, что в молодости маму звали «дурнушкой Лидз». И что ей тоже пришлось выйти замуж за человека намного ниже себя по положению, за человека, у которого была «страшная тайна» в прошлом: Говард Уильямс происходил из семьи «белой грязи» — бедняков-батраков, всю жизнь гнувших спину на чужих полях, — правда, это позорное пятно компенсировалось тем, что он работал доцентом в Чарльстонском колледже. Однако звание доцента было неадекватной компенсацией. Бедный папочка!

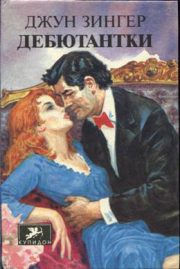
"Дебютантки" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дебютантки". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дебютантки" друзьям в соцсетях.