Агата сжала его руку и прижалась щекой к его плечу, точно так же, как когда они вместе шли по Альбрехтовской улице, до того, как мимо проехало такси.
— Ой, я испачкала ваш плащ пудрой. Извините! — И она отряхнула его рукав.
~~~
Конечно, такого никогда-никогда не случается на самом деле, только в литературных произведениях, — но если бы, скажем, какая-нибудь чайка, пролетающая над Дотом после утомительного дня, проведенного в погоне за паромом в Дэш и обратно, и размышляющая, что делать теперь: слетать в порт или порыться в мусорных баках на рыбном рынке, — так вот, если бы такая чайка, летящая на достаточной высоте, в нужный момент посмотрела бы вниз, она могла бы увидеть на одном конце города Агату, прижавшуюся к Тибо в поисках тепла, и Тибо, прижатого к Гильому из-за недостатка свободного пространства; а если бы эта чайка взглянула своими острыми черными глазками в другую сторону, она могла бы, вероятно, на какое-то мгновение рассмотреть в кухонном окне одного из домов на Александровской улице двух мужчин, сидящих за столом и обедающих. Разумеется, она ни за что бы не услышала, о чем они говорят, — с такой-то высоты, да и ветер свистит в ушах. А поскольку лучшие истории, включая и нашу, состоят из слов, как дом состоит из кирпичей, а песчаный пляж из крошечных песчинок, то мы лучше не будем тратить время на эту гипотетическую чайку.
Но если бы, скажем, кот Ахилл сидел у плиты на кухне в доме на Александровской улице, он услышал бы каждое слово. Ахилл и в самом деле сидел там; он как раз закончил чесать лапкой за ухом и планировал посвятить следующие несколько минут вылизыванию интимных частей своего тела — но тут его испугал и заставил залезть под диван грохот брошенной в раковину сковороды, той самой новой Агатиной сковороды.
— Хлеб еще есть? — спросил Стопак.
— Только этот, — ответил Гектор, вытер толстым куском хлеба жир от бекона со своей тарелки и тут же отправил его в рот.
— А яйца?
— Ты съел всю коробку. Неудивительно, что ты толстый, как бочка.
— Мне нужны силы.
— Я думаю! Эта Агата, небось, многого от тебя требует, а? А? Так?
Стопак изобразил оскорбленную скромность.
— Она просто тигрица какая-то. Никак не могу от нее отбиться. Ей все время хочется. Нон-стоп. Ни минуты покоя.
— А пиво еще есть? — спросил Гектор.
— В угловом шкафу.
Гектор встал, чтобы проверить.
— У тебя осталась всего пара бутылок. Но скоро откроются «Короны». Поскольку ты мой друг, я позволю тебе угостить меня чем-нибудь покрепче.
Они некоторое время посидели в тишине. Стопак уписывал разогретую жареную картошку, Гектор курил, пуская в потолок колечки дыма.
— Значит, эта Агата, она… А?
— Да уж, эта Агата… Такая женщина, ух! Можешь мне поверить.
— Не сомневаюсь. Ты счастливчик, кузен.
Стопак не смог ответить сразу, потому что сражался с огромным куском бекона. Наконец он проговорил:
— Послушай, Гектор, это все не так здорово, как тебе кажется. Я тебе говорю: быть таким видным мужчиной, как я, — проклятие. Сущее проклятие! Она настоящая самка.
— Это, должно быть, ужасно.
— Ужасно, да.
— Бьюсь об заклад, тебе есть что порассказать!
— Ты и половине не поверишь.
— Да, жаль, что матрасы не умеют разговаривать.
Стопак что-то промычал с набитым ртом, но ничего не ответил. Даже когда Гектор поощрительно замолчал, растягивая паузу, которая так и взывала к Стопаку о том, чтобы он заполнил ее рассказом о голой ненасытной Агате, — даже тогда он не произнес ни слова.
Через некоторое время Стопак отхлебнул из бутылки и спросил:
— Что ты делаешь?
— Тебя рисую.
— Что ж, я тебя понимаю.
— Ты — замечательная натура. У меня целые блокноты изрисованы твоими набросками.
— Вообще-то я плачу тебе, чтобы ты клеил обои и красил стены, а не писал портреты. Я думал, ты давно забросил эту свою мазню.
— Не могу. Это у меня в крови. Сиди спокойно.
Стопак слегка повернулся к окну.
— Так лучше? Кстати, продал ты хоть один свой рисунок?
— Рано или поздно это случится.
— Ты бы лучше сосредоточился на покраске водосточных труб и оконных рам. Так хоть на хлеб заработаешь.
— Нельзя же заниматься этим всю жизнь. Кажется, пора?
Стопак взглянул на часы.
— Да, они открылись. Пошли, угостишь меня стаканчиком.
— Подожди, сначала посуду помою.
— Брось. Этим Агата займется, когда придет.
— А где она, кстати?
— В церкви. Снова в церкви. Она оттуда не вылезает.
— Наверняка молит святую Вальпурнию даровать ей целомудрие.
— Поздно, дружище, поздно. Я же говорю, эта моя жена — словно течная сука. Ни минуты покоя. Продыху не дает. Я тебе вот что скажу: нарисуй-ка ты ее! Нарисуй Агату. Напиши большое такое ню, повесим его над камином.
Гектор закрыл блокнот и втиснул его в карман куртки рядом с коричневым томиком Омара Хайяма.
— Не могу, — сказал он. — Написать Агату? Обнаженной? Так нельзя. Я даже подумать о таком не могу.
Дверь за ними закрылась, Ахилл вернулся к плите и принялся вылизывать свои гениталии.
В тот момент, когда он приступил к этому занятию, оркестр пожарной бригады как раз собрался устроить антракт. Щеки надуты, как спелые яблоки, пот течет из-под начищенных касок; оркестранты во весь опор несутся по последним тактам чего-то чрезвычайно бравурного, предвкушая встречу с ящиком пива, что лежит в сторожке, в цинковой ванночке рядом с газонокосилкой. Все смотрим на дирижера! Ритм держим, ритм — это к вам относится, господин глокеншпиль! Все вместе заходим на финальный аккорд, иииии… Аплодисменты!
— Боюсь, осталось вытерпеть еще столько же, — обреченно проговорил Емко Гильом.
— Не могу понять, зачем вы сюда пришли, если все это вам так не нравится? — поинтересовалась Агата.
— Возможно, не столько ради музыки, сколько ради компании. Вам не кажется, госпожа Стопак, что зачастую именно ради этого мы ходим по разным мероприятиям?
В более тихой обстановке, а не в окружении шумной толпы, тихое «гм!», произнесенное Агатой, могло бы быть услышано, но сейчас никто его не услышал; а поскольку она сидела на первом ряду, и все присутствующие смотрели более или менее вперед, то никто, кроме Тибо, не заметил, что она отпустила его ладонь и скрестила руки на груди, слегка надув губы. Но даже об этом было забыто, когда Гильом снял свою шляпу, нацепил ее на трость и поднял в воздух наподобие флага.
— Боже мой, что вы делаете? — изумилась Агата.
— Да, — сказал Тибо, — что это вы такое делаете?
— В моем лице вам предстоит обнаружить, — ответил Гильом, — неисчерпаемый источник удивления и развлечения.
И он улыбнулся такой обаятельной, располагающей, неотразимой, детской улыбкой, что Агата против воли улыбнулась в ответ.
Тем временем Гильом принялся размахивать своей палкой вверх-вниз, как тамбурмажором, и гудеть, изображая ту самую глупую мелодию, которую оркестр исполнял перед антрактом:
— Помм! Помм! Пум-пурум-пум-пум!
Удивительно, но никто из зрителей, казалось, не находил в поведении адвоката ничего странного. Более того, они, похоже, вообще не обратили на него ни малейшего внимания — даже когда он стал вращать шляпу на трости, на манер тех китайских жонглеров, которые два года назад вызвали своими трюками с палками и тарелками такой ажиотаж в Оперном театре.
— Ох, это утомительно, скажу я вам! — пропыхтел Емко. — Не знаю, сколько я еще смогу выдержать.
— Ну, если без этого небо упадет нам на голову или случится еще что-нибудь в этом роде, — хихикнула Агата, — я готова принять эстафету. Помм! Помм! Пум-пурум-пум-пум!
— Весьма признателен вам за это любезное предложение, госпожа Стопак, но, кажется, особой нужды в этом все-таки нет. — И тут, вместо того, чтобы в очередной раз прогудеть «помм!», адвокат опустил свою палку и сказал: — Там-тадах! — Изобразив, таким образом, финальные фанфары.
Рядом с Агатой появился тощий человечек со значком таксиста. В руках он держал складной бамбуковый столик и корзину для пикника.
— Так вы подавали знак! — догадался Тибо.
— Конечно, я подавал знак, Крович. А вы думали, я сошел с ума? Как иначе этот бедняга нашел бы нас? — Гильом произнес эту тираду довольно бодро, но когда обратился к Агате, его голос упал до изможденного шепота: — Госпожа Стопак, будьте добры, не откажитесь выступить в качестве хозяйки. Буду очень признателен.
Водитель такси распрямился, охнул, потер спину и растворился в толпе, предоставив Агате разбираться с содержимым корзины. Она открыла ее примерно с тем же выражением на лице, с каким Эстер Роскова открывала сундук с сокровищами в финальной сцене «Королевы ямайских пиратов».
— Ну и ну! Чего тут только нет! — воскликнула Агата и тут же взглянула на Гильома, опавшего на свою трость, как опадает цирковой купол, когда цирк снимается с места. — Как вы себя чувствуете? — заботливо спросила она.
— Посмотрите, есть ли там что-нибудь попить, — сказал Тибо и положил руку адвокату на плечо. — Похоже, вы слегка перестарались, господин Гильом. Ничего, скоро придете в себя.
— Здесь есть вино, — сказала Агата, передавая Тибо бутылку и штопор. — Я с этим никогда не умела управляться.
Это была неправда. Агата отлично знала, как пользоваться штопором, ей просто хотелось сделать Тибо приятное — ибо открывать бутылки, так же как выносить мусор и поднимать из подвала уголь, — занятие для больших, сильных мужчин.
Тибо зажал бутылку коленями, вытащил пробку и плеснул вина в протянутый Агатой бокал.
— Выпейте-ка, — предложил он Гильому. Тот взял бокал за ножку и отхлебнул немного. Вино окрасило его губы, бывшие только что интересного голубоватого оттенка, в красный цвет.
— Спасибо, — проговорил Гильом. — Там, кажется, есть глазированное печенье. Дайте, пожалуйста, одну штучку.
— Глазированное печенье, — сказал Тибо.
— Глазированное печенье, — повторила Агата. — Пожалуйста! — И она передала печенье с тем выражением на лице, с каким медсестра передает хирургу скальпель в решающий момент сложной операции.
Емко откусил кусочек печенья и стал вежливо жевать его передними зубами, как кролик.
— Не обращайте на меня внимания, дети мои, — сказал он. — Сейчас я приду в себя. Давайте, ешьте. Ешьте все, что есть. Приятного аппетита.
— Здесь на целый полк хватит, — сказала Агата.
— Вы что, ждали, что мы придем? — спросил Тибо. — Не собирались же вы все это съесть в одиночку?
— Как я уже говорил, дорогой Крович, никогда нельзя обманывать ожидания публики. Я собирался пожевать сухое печенье, однако сегодня вечером о моем обжорстве будет судачить вся Соборная улица. Бухгалтеры с безупречной репутацией и служители религиозного культа будут клясться, что видели, как я съел целую корову. Но вы должны мне помочь. — Гильом повернулся к Агате. — Кажется, госпожа Стопак, там должна быть еще бутылка шампанского. Угощайтесь.
И они угостились. Тибо вытащил вторую пробку. Они выпили шампанского и закусили холодным цыпленком, и ветчиной, и нежно-розовой, тонко порезанной говядиной; еще в корзине обнаружилась большая банка консервированных персиков и горшочек со сливками, густыми, как заварной крем. Они ели и смеялись, но Агата время от времени посматривала на Емко с нежной заботой во взгляде. Потом она шепнула Тибо:
— Давайте пересядем, хорошо? Я хочу сесть рядом с ним.
Вот так и вышло, что все второе отделение концерта, до самого марша Радецкого, Тибо сидел на краю ряда, у прохода, вытаскивал из корзинки марципаны и клал их в рот Агате, поскольку у той обе руки были заняты: одна лежала в его собственной руке, а другая покоилась на плече у Емко, время от время по этому самому плечу тихонько похлопывая.
Одному Богу известно, за что пожарный с тубой так мучил свой инструмент, но, как бы то ни было, к тому моменту, как оркестр грянул национальный гимн, Гильом уже совершенно оправился от переутомления, вызванного фокусами со шляпой. Он поднялся на ноги вместе со всеми остальными зрителями, однако, в отличие от Тибо и Агаты, не стал утруждать себя пением.
— Ну вот, теперь до следующего года, — сказал Тибо. — Пора готовиться к зиме.
— Это был замечательный пикник, — сказала Агата. — Помочь убрать со стола?
Гильом покачал головой.
— Этим займется водитель. Было очень приятно.
— Тогда я провожу Агату до трамвая.
— Да, — сказал Емко. Больше он не сказал ничего, но ему удалось вложить в это единственное слово очень многое. Так дикие гуси, улетающие с Амперсанда на юг, всегда издают один лишь единственный однообразный клич, который, однако, наполняет все небо печалью и тоской.

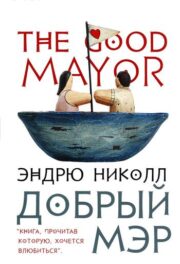
"Добрый мэр" отзывы
Отзывы читателей о книге "Добрый мэр". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Добрый мэр" друзьям в соцсетях.